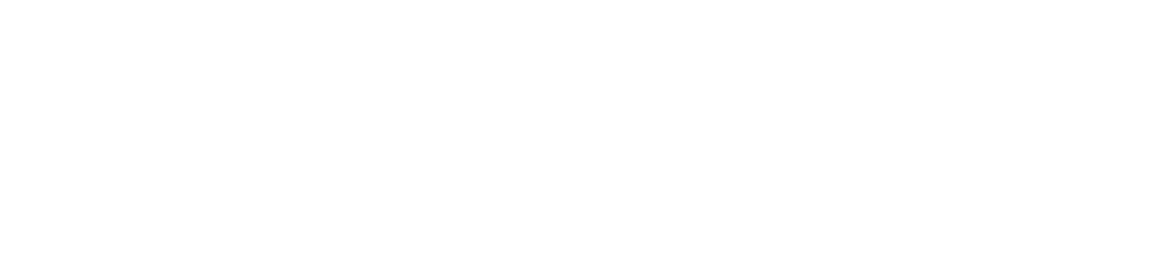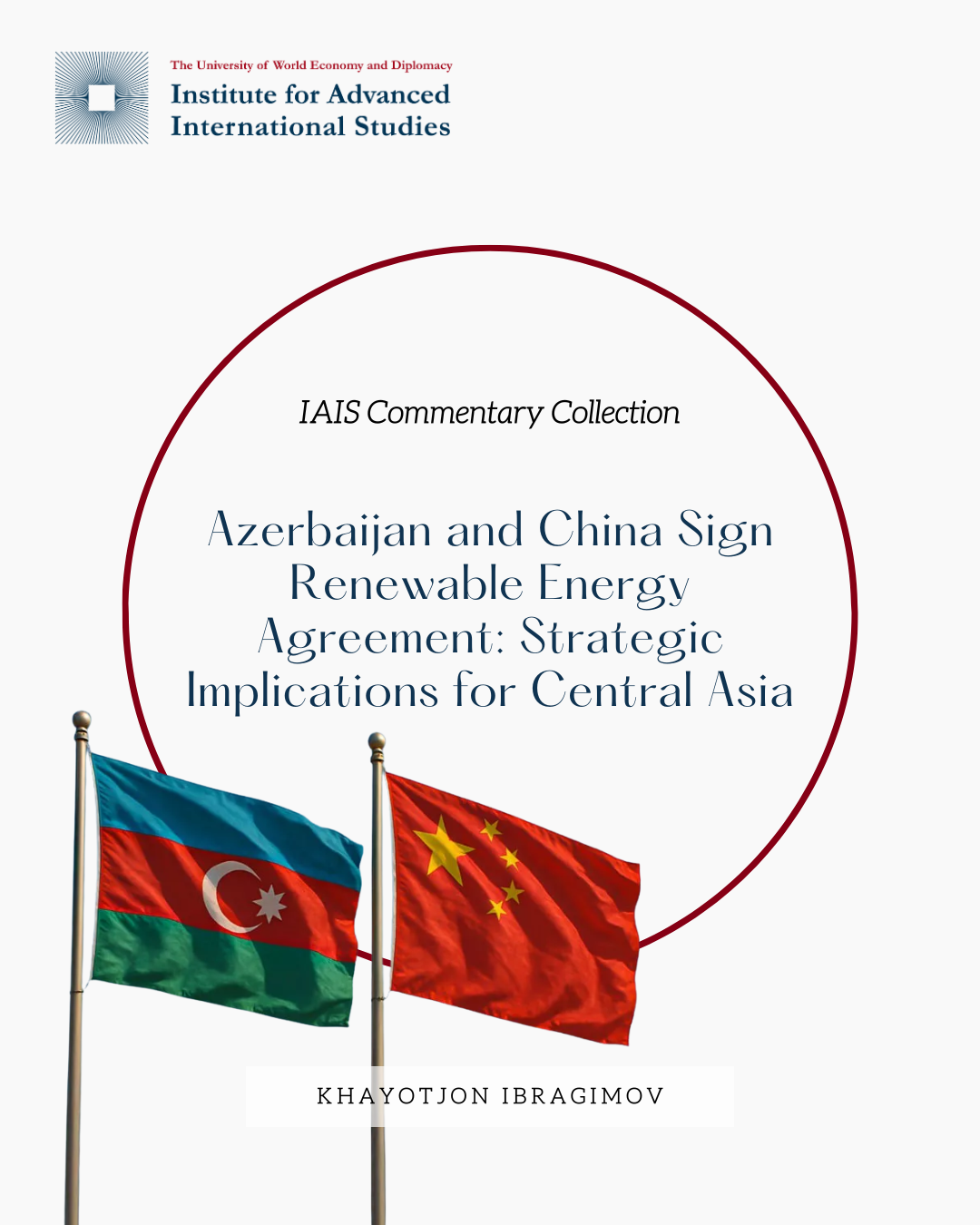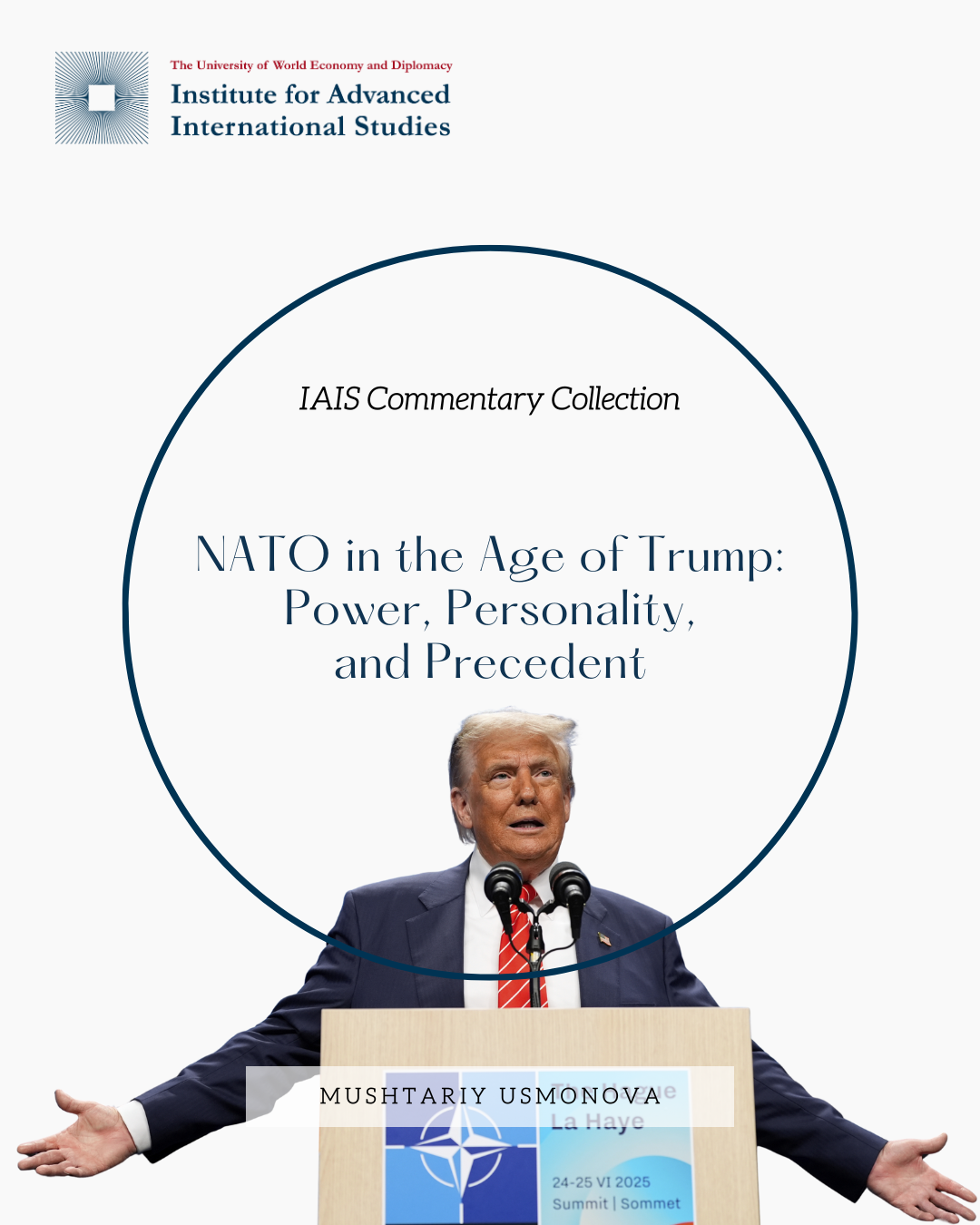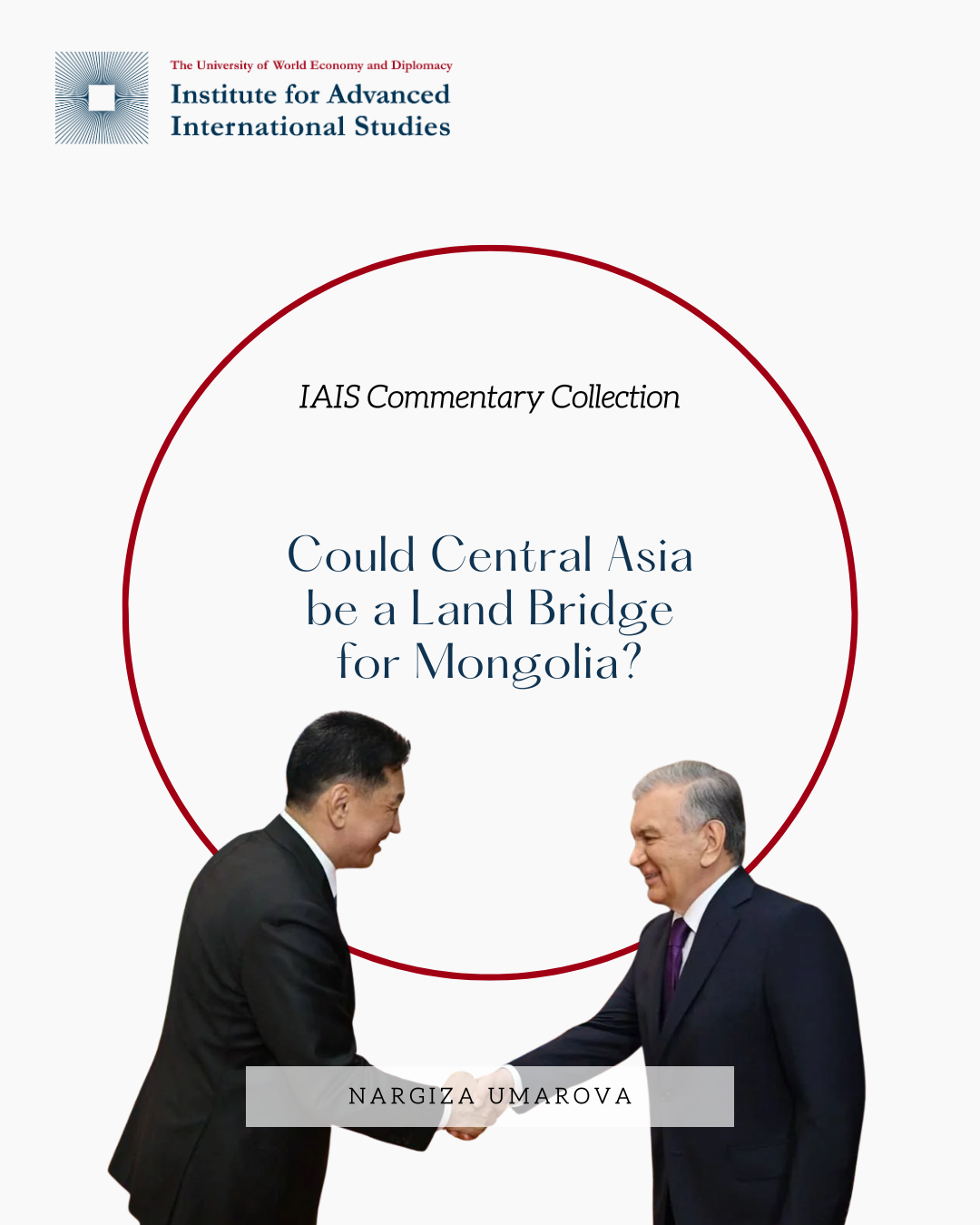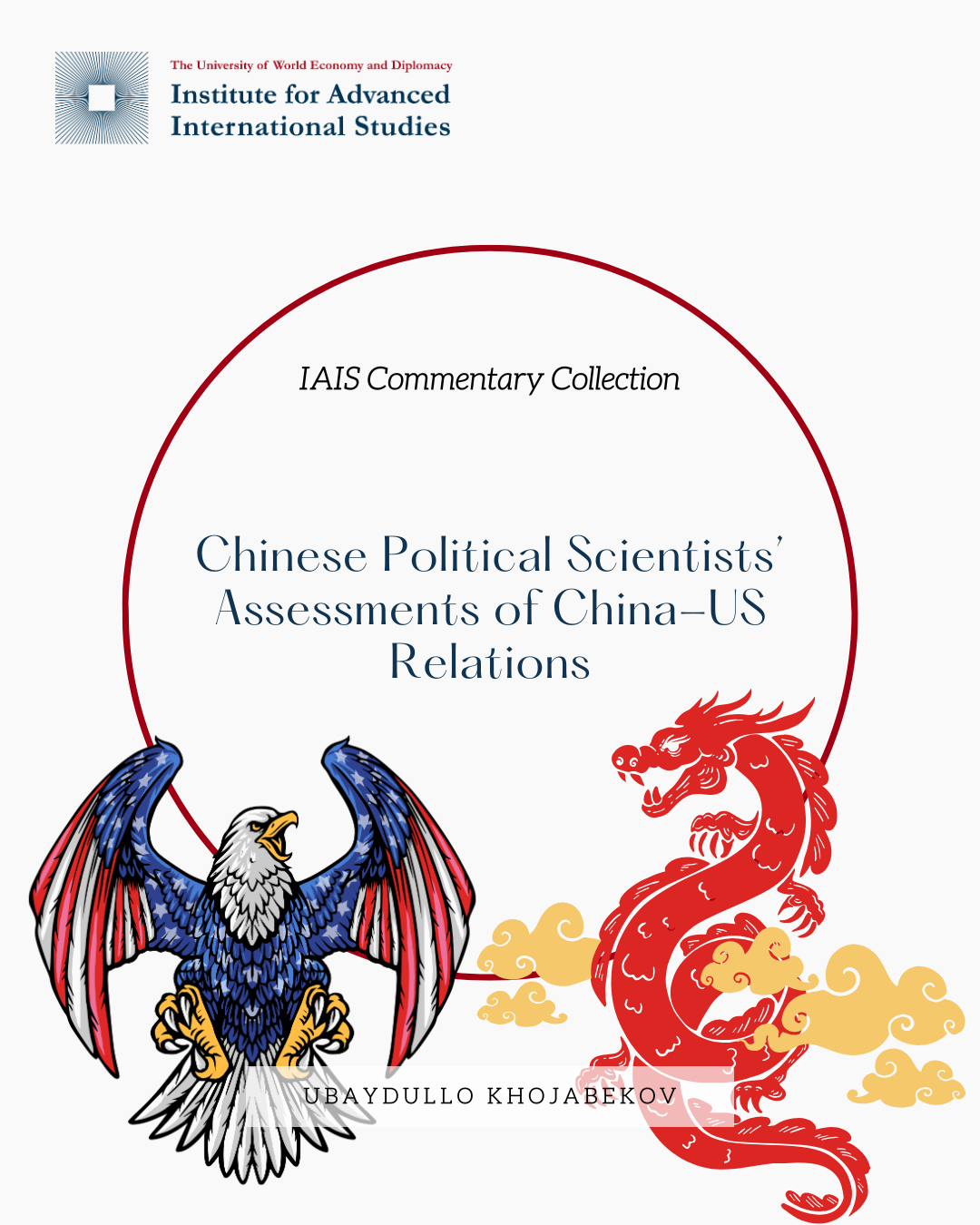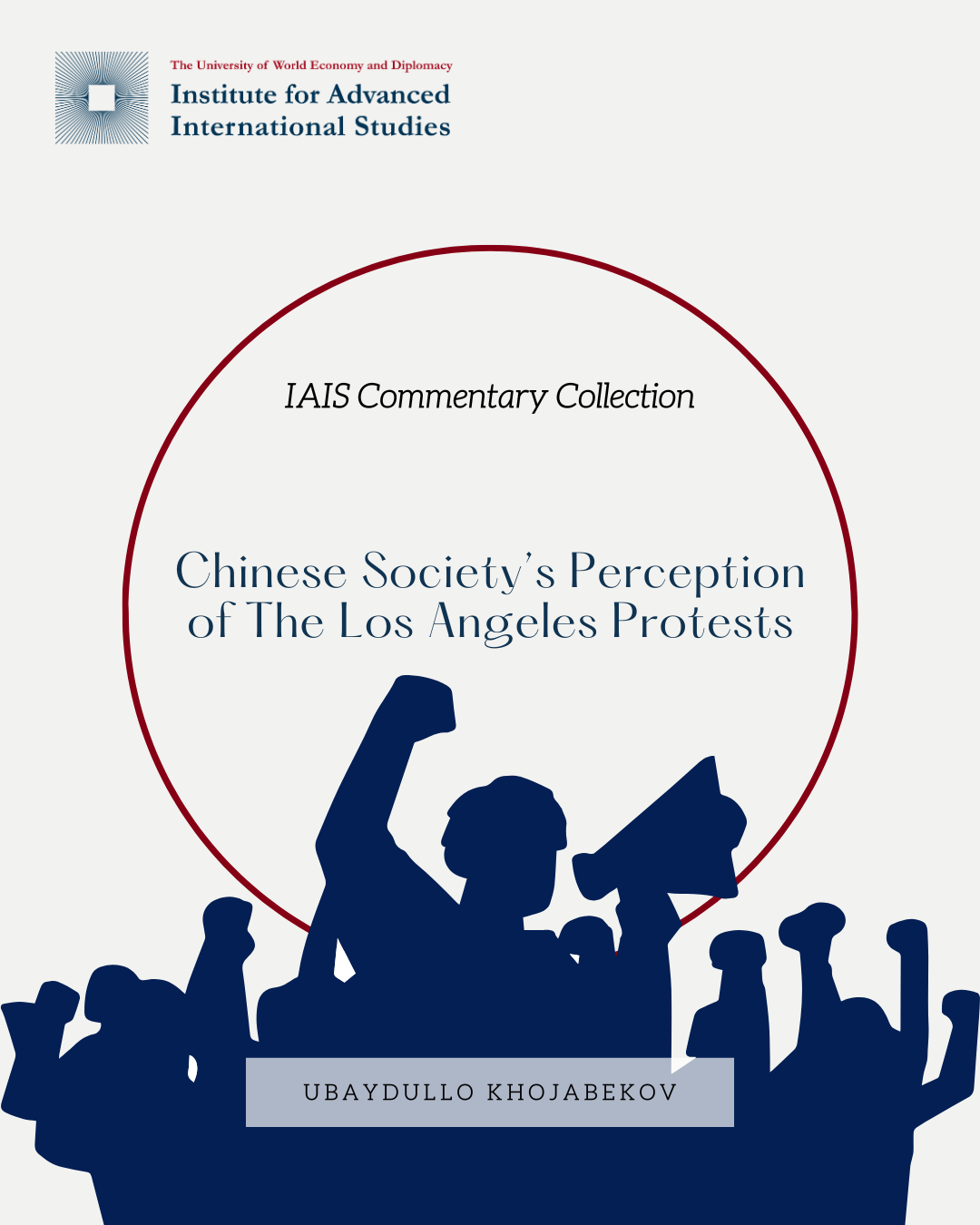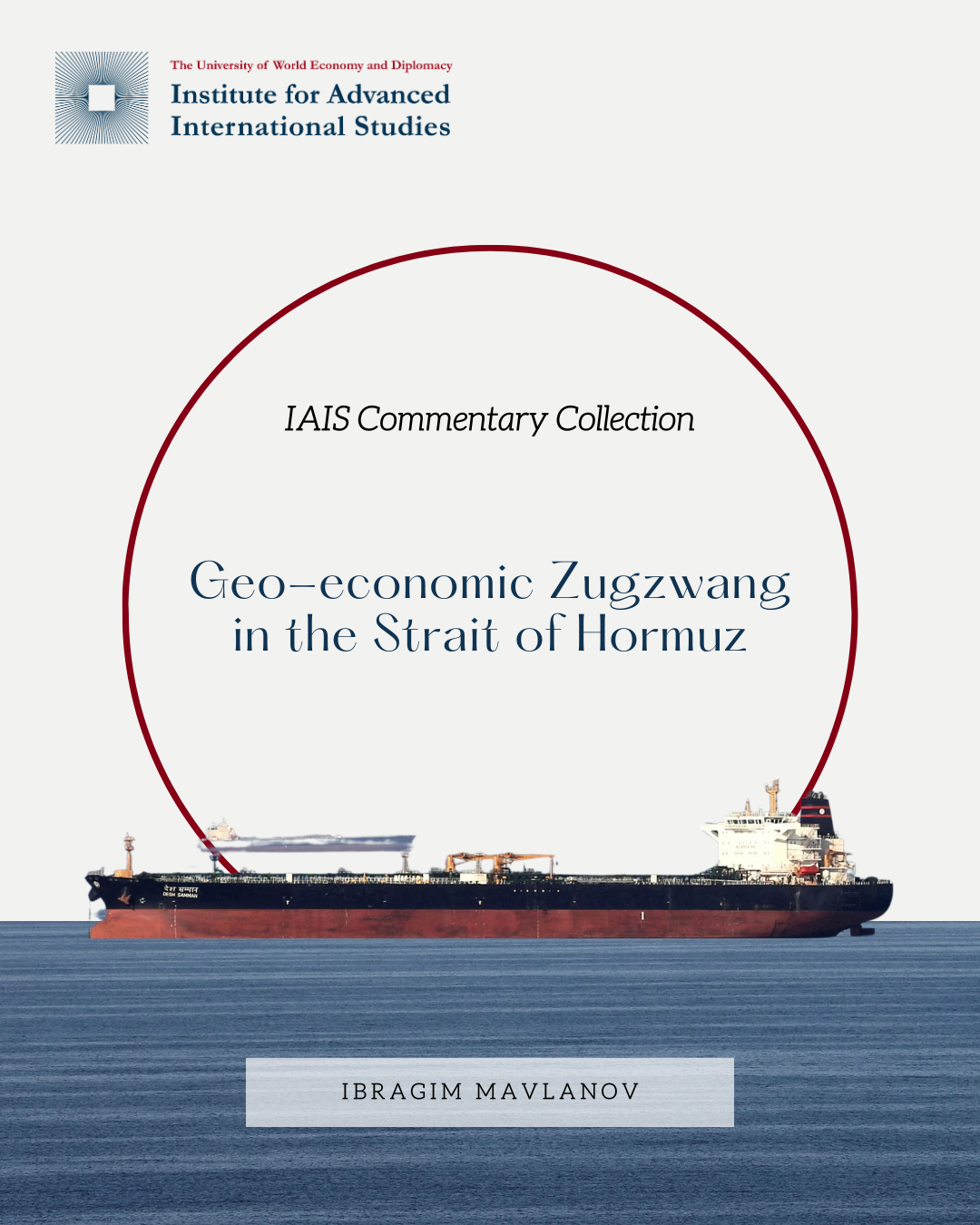Саммит НАТО 2025 года в Гааге прошел в переломный момент для евроатлантического сообщества. На фоне возобновившихся геополитических напряжений на Ближнем Востоке, продолжающегося конфликта в Украине и растущей озабоченности по поводу долгосрочной стратегической сплоченности альянса саммит предоставил важную возможность переоценить приоритеты и обязательства. Особое влияние оказало присутствие президента США Дональда Трампа, которое определило как результаты, так и тон дискуссий, в частности по вопросам оборонных расходов и трансатлантических соглашений в области безопасности.
Одним из наиболее значимых событий стало официальное принятие новой цели по выделению 5% ВВП на оборону и связанные с ней расходы к 2035 году. Это означало существенное увеличение по сравнению с предыдущим ориентиром в 2% и, по-видимому, отражало сближение позиций США, давно призывавших к более равномерному распределению бремени, и Европы, признававшей изменение ситуации в области безопасности. Хотя эта цель была сформулирована как коллективный ответ на постоянные угрозы, она также подчеркивает сохраняющиеся различия в возможностях и ожиданиях членов альянса. Президент Трамп, со своей стороны, представил соглашение как значительный успех для Соединенных Штатов и подчеркнул важность направления дополнительных ресурсов на военные закупки, предпочтительно через отечественное производство.
Значительное внимание привлекли авиаудары США по иранским ядерным объектам, нанесенные незадолго до саммита. Хотя президент Трамп охарактеризовал эту операцию как решающее стратегическое достижение, первые оценки разведывательных источников и международных партнеров были более осторожными. Различные интерпретации эффективности операции продемонстрировали сложность согласования военных действий с многосторонним консенсусом. В то же время более широкие дипломатические последствия перемирия между Израилем и Ираном остались нерешенными, даже несмотря на то, что лидеры выразили поддержку продолжению усилий по снижению напряженности и возобновлению переговорного процесса.
Саммит также продемонстрировал роль личной дипломатии в динамике альянса. Замечания генерального секретаря НАТО Марка Рютте, в том числе упоминание Трампа как отцовской фигуры в переговорах, были широко интерпретированы как часть более широких усилий по поддержанию конструктивного взаимодействия с Соединенными Штатами. Хотя такие жесты, возможно, помогли укрепить сплоченность во время саммита, они также вызвали вопросы о том, в какой степени институциональные решения все больше определяются личностями и предпочтениями отдельных лидеров.
Позиция Украины в дискуссиях НАТО оставалась весьма заметной. Президент Владимир Зеленский прямо предупредил, что Россия может нацелиться на государство-член НАТО в течение следующих пяти лет, призвав альянс ускорить выполнение своих обязательств. Хотя лидеры НАТО вновь заявили о своей поддержке Украины, включая увеличение оборонной помощи и промышленного сотрудничества, вопрос о формальном членстве остался нерешенным. Разногласия, особенно со стороны Венгрии, подчеркнули сохраняющуюся неоднозначность внутри альянса по поводу будущей интеграции Украины и более широкого вопроса о расширении.
Экономический аспект саммита также не был проигнорирован. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил озабоченность по поводу потенциального противоречия между увеличением расходов на оборону и ростом торговых трений через Атлантику. Его замечания отражали растущее понимание того, что военные обязательства должны подкрепляться стабильной экономической основой и взаимным доверием между союзниками. Таким образом, выступление Макрона послужило напоминанием о взаимозависимости стратегического, политического и экономического аспектов трансатлантических отношений.
Роль Нидерландов в проведении саммита еще раз продемонстрировала важность дипломатического символизма. Благодаря тщательному планированию и индивидуальному подходу к взаимодействию, в том числе высокопоставленному приему президента Трампа, Нидерланды стремились укрепить единство альянса и продемонстрировать его непреходящую актуальность. Эти усилия, возможно, способствовали относительно гладкому принятию деклараций саммита, даже несмотря на скрытое напряжение по ключевым политическим вопросам.
В целом, саммит НАТО 2025 года продемонстрировал, что, хотя институциональные обязательства могут быть подтверждены, а политические цели пересмотрены, стратегическая автономия альянса остается предметом споров. Сегодня НАТО адаптируется к ситуации в области безопасности, которая определяется как институциональными приоритетами, так и личностями, которые ими руководят. Остается открытым вопросом, укрепит ли эта трансформация альянс в долгосрочной перспективе или дестабилизирует его.
* Институт перспективных международных исследований (ИПМИ) не принимает институциональной позиции по каким-либо вопросам; представленные здесь мнения принадлежат автору, или авторам, и не обязательно отражают точку зрения ИПМИ.