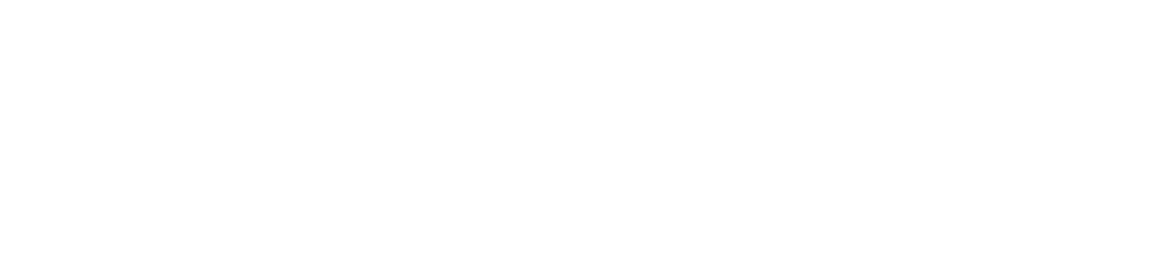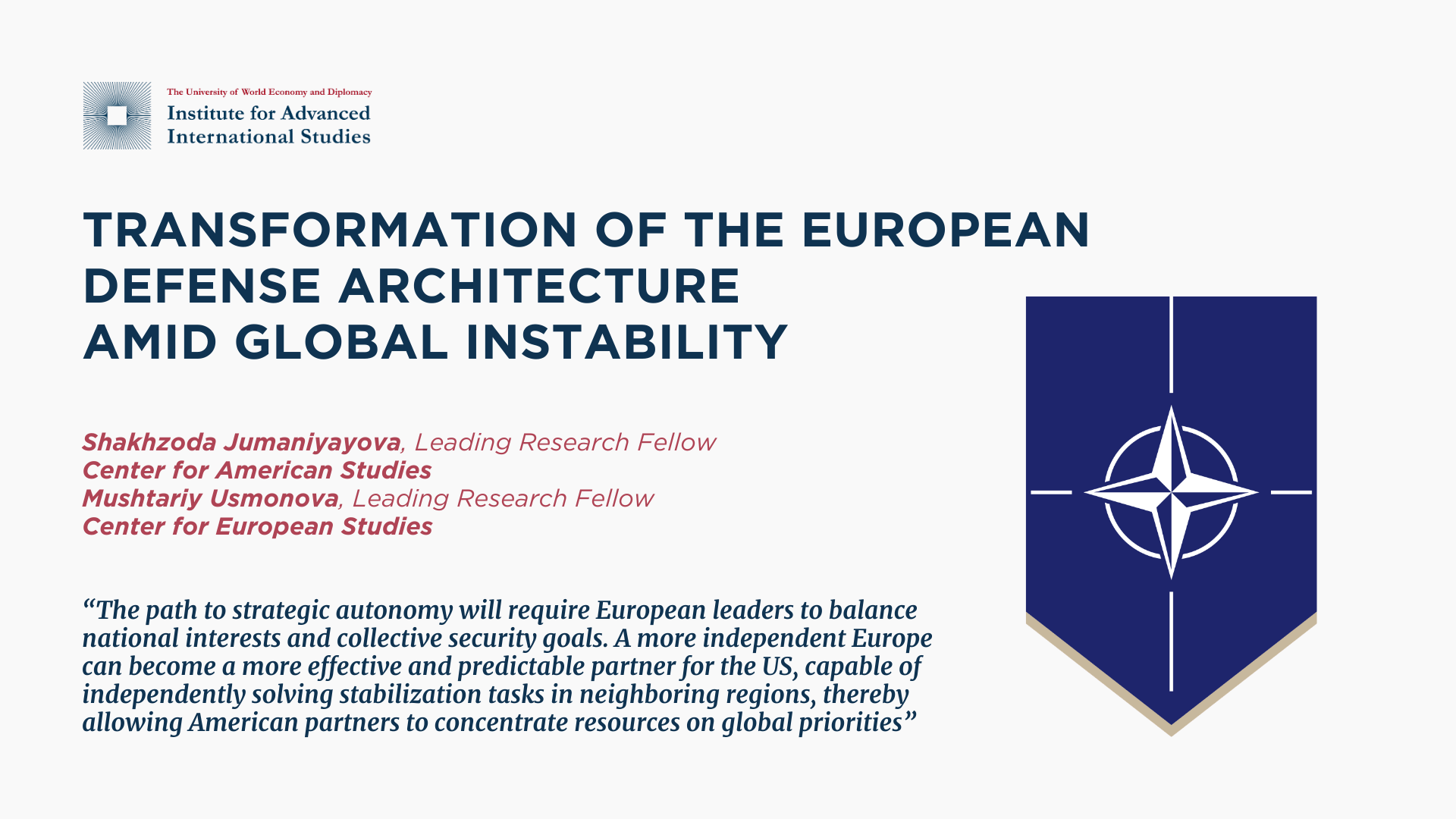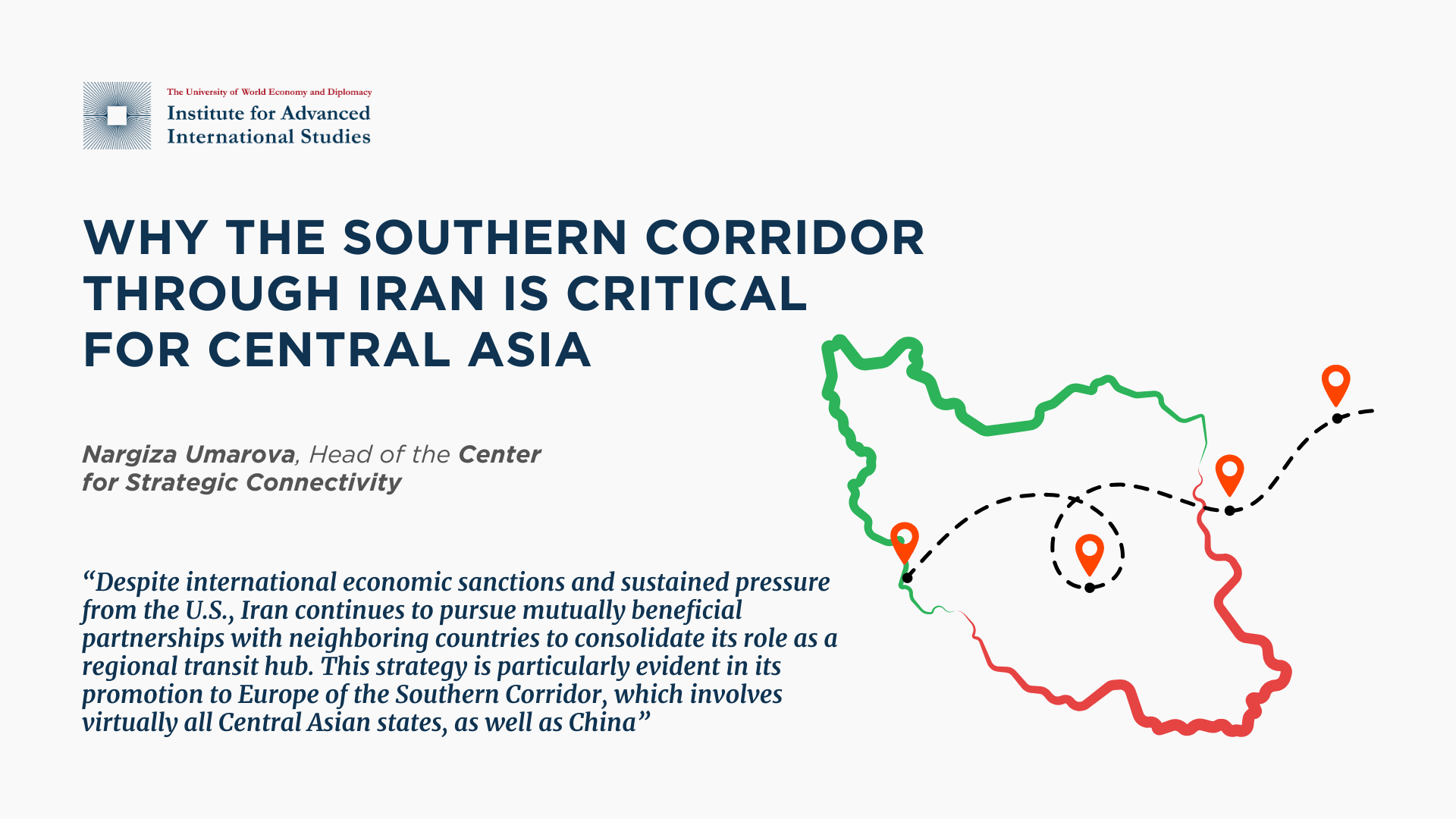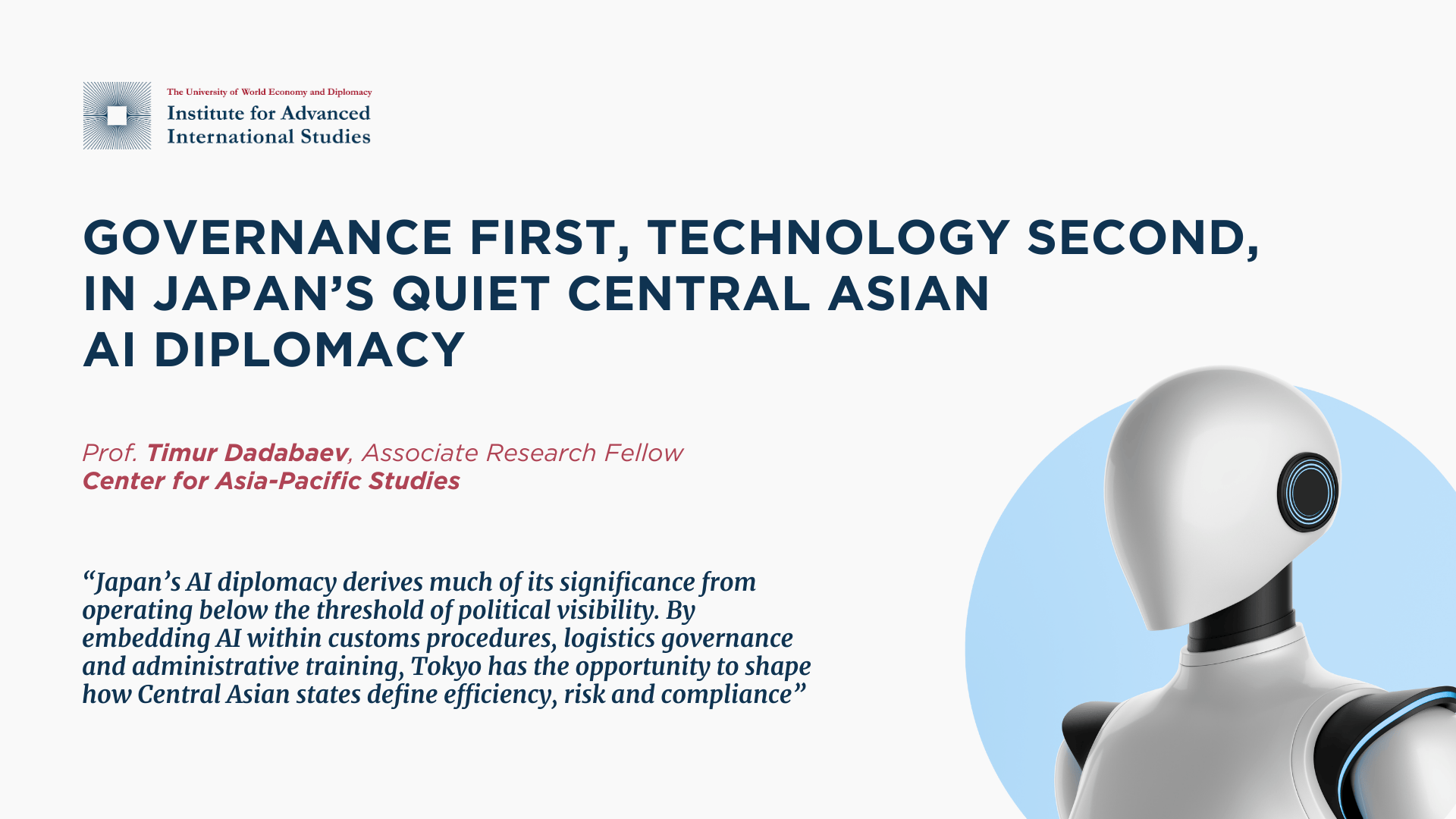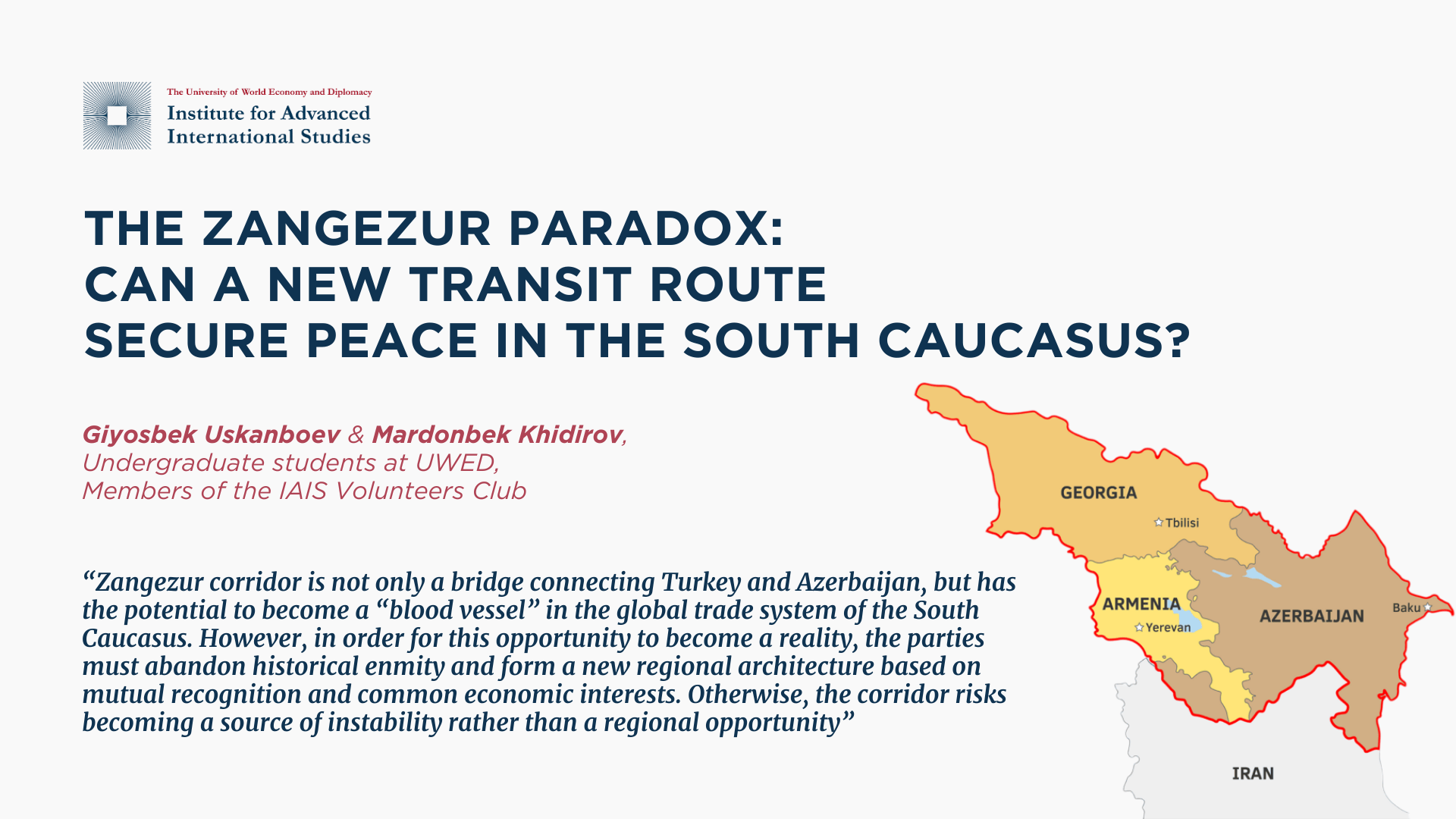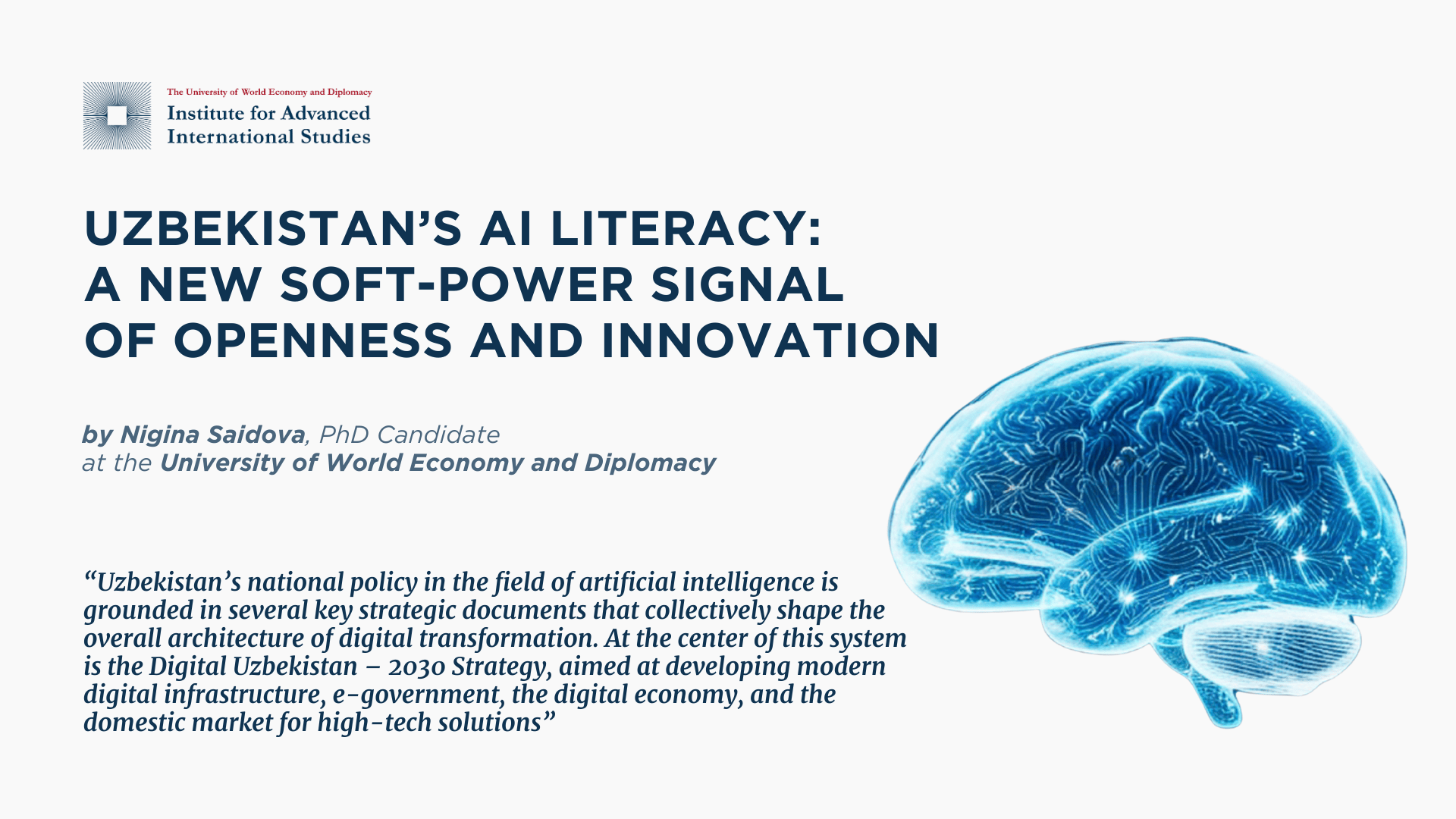Современная архитектура европейской безопасности, десятилетиями базировавшаяся на американских гарантиях и концепции «конца истории», сегодня переживает значительную трансформацию. События последних лет продемонстрировали, что эпоха минимальных расходов на оборону под защитой трансатлантического партнёрства проходит через период существенных изменений.
Трансформация глобального порядка, характеризующаяся изменением баланса сил между великими державами, ставит перед Европейским союзом важные стратегические вопросы. Ситуация осложняется тем, что Соединенные Штаты в своей Стратегии национальной безопасности на 2025 год призвали «сопротивляться нынешнему курсу Европы», а введение торговых пошлин в отношении партнёров показало необходимость пересмотра существующих договорённостей.
Даже при сохранении формальных обязательств по статье 5 Североатлантического договора, стратегические приоритеты США смещаются к управлению конкуренцией с Китаем.
Для обеспечения своей безопасности и защиты интересов граждан Европе целесообразно перейти к более активной роли в вопросах обороны, развивая собственный интегрированный военный потенциал. Исторически сложившаяся зависимость Европы от США в вопросах обороны создала опасную иллюзию безопасности, которая привела к деградации национальных вооруженных сил и глубокой фрагментации военно-промышленного комплекса. Роль Соединенных Штатов в системе европейской безопасности традиционно была весьма значительной, включая не только предоставление гарантий безопасности, но и обеспечение критически важных возможностей, без которых европейские вооружённые силы имеют ограниченные возможности для ведения длительных операций высокой интенсивности. Речь идет о стратегической разведке, спутниковой связи, дозаправке в воздухе и тяжелой транспортной авиации.
Конфликт в Украине продемонстрировал, что европейские армии, адаптированные под международные миссии и кризисное реагирование, нуждаются в развитии возможностей для ведения высокоинтенсивных операций, где решающим фактором становится не только технологическое превосходство, но и масштаб производства, логистика и устойчивость оборонного заказа.
Даже при урегулировании ситуации в Украине сохраняется необходимость поддержания надёжной системы безопасности: Россия продолжает укреплять свой военный потенциал, что требует от стран НАТО поддержания постоянной готовности на восточном направлении.
Пока архитектура европейской безопасности опирается на трансатлантическое партнёрство и американские гарантии, проекты развития европейской оборонной автономии имеют определённые ограничения. На этом фоне показательно заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о начале переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером относительно возможного расширения французских и британских гарантий ядерного сдерживания на европейский уровень, что фактически переводит ранее теоретическую дискуссию о «европеизации» их ядерного потенциала в плоскость практической политики.
Анализ текущего состояния возможностей стран Евросоюза в области обычных вооружений выявляет фундаментальный парадокс: при совокупных военных расходах, превышающих 290 миллиардов евро, реальная боеспособность Европы остается низкой. Несмотря на то, что страны НАТО договорились увеличить расходы до 3,5% ВВП к 2035 году, одна лишь финансовая составляющая не способна решить структурную проблему.
Значительный оборонный бюджет США, приближающийся к 1 триллиону долларов, позволяет Вашингтону инвестировать в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) суммы, сопоставимые с общими военными бюджетами крупнейших европейских стран вместе взятых. Это создает ситуацию технологического разрыва, где приобретение американского вооружения часто становится для Европы предпочтительным решением с точки зрения соотношения цена-качество.
Основная возможность для повышения эффективности европейских подходов связана с усилением координации и устранением дублирования функций на национальном уровне. Главным ограничителем остаётся институциональная архитектура ЕС: решения в области обороны по-прежнему требуют консенсуса, а различие стратегических культур (от польской мобилизационной логики до южноевропейского приоритета Средиземноморья) создаёт определённые сложности для единого планирования.
Каждая страна стремится поддерживать собственную промышленную базу, что ведет к производству относительно небольших серий вооружений и затрудняет реализацию эффекта масштаба. Министерства обороны европейских стран иногда проявляют осторожность в вопросах интеграции, что связано с желанием сохранить существующие структуры и контракты национальных компаний. По оценкам экспертов, ежегодные потери от отсутствия интеграции в оборонной сфере составляют от 25 до 30 миллиардов евро, а совместные закупки могли бы сократить расходы на перевооружение вдвое. Для сравнения: если США эксплуатируют один основной тип боевого танка М1 «Абрамс», в армиях европейских государств их насчитывается семнадцать различных типов. Аналогичная ситуация наблюдается в отношении боевых машин пехоты, артиллерийских систем и авиации.
Такое многообразие вооружений создаёт логистические вызовы, усложняя совместные операции без дополнительной координации и поддержки, что в условиях смещения фокуса США в сторону Индо-Тихоокеанского региона требует внимания. Показательным примером является программа истребителя пятого поколения F-35. Масштабные закупки этого самолета Германией, Польшей и Нидерландами означают технологическую зависимость от американских партнёров. Приобретая F-35, европейские страны получают доступ к передовой цифровой экосистеме, что обеспечивает высокий уровень технологических возможностей при сохранении определённой взаимозависимости.
При этом около 78% всех оборонных закупок европейских стран за последние два года были направлены внешним поставщикам, преимущественно американским компаниям через механизм «Зарубежных продаж военного оборудования» (Foreign Military Sales). Это отражает конкурентоспособность американской оборонной промышленности, однако также указывает на необходимость развития европейской технологической базы для обеспечения большей сбалансированности. Конфликт в Украине показал важность диверсификации источников поставок: европейское производство столкнулось с трудностями при восполнении дефицита снарядов калибра 155-мм, а высокотехнологичные системы, такие как «Хаймарс», ракеты «Пэтриот» и разведывательные данные в реальном времени, поступали преимущественно от американских партнёров. Это подчёркивает важность развития собственных производственных возможностей для повышения устойчивости европейской системы безопасности.
Фрагментированность оборонного заказа влияет на экономическую эффективность, создавая дополнительные бюджетные нагрузки для европейских государств. В современных условиях оборона рассматривается не только как статья расходов, но и как важная составляющая промышленной политики Европы: производство боеприпасов, беспилотных систем, средств кибербезопасности и космической разведки может способствовать поддержанию технологической конкурентоспособности ЕС в целом.
Нынешняя геополитическая ситуация поставила Европу перед необходимостью переосмысления основ трансатлантических отношений, когда концепция «разделения ответственности» приобретает практическое значение. Бюджетные ограничения в США могут способствовать корректировке американского присутствия в различных регионах. Как следствие, ЕС стоит перед выбором: либо развитие интеграции в области обороны и укрепление своей роли как самостоятельного игрока в сфере безопасности, либо сохранение текущего статуса, при котором возможности континента в значительной степени зависят от внешних факторов.
Развивая концепцию более интегрированных оборонных структур, ЕС может создать эффективные координационные механизмы. Речь идет о поэтапной интеграции, первым этапом которой может стать формирование Сил быстрого развертывания численностью от 50 до 100 тысяч человек, где значительный вклад могли бы внести страны с существенными военными возможностями, такие как Испания и Италия. Эти силы должны обладать единым командованием и координироваться с вооружёнными силами государств Восточной Европы. Важнейшим инструментом реализации этой стратегии является финансовая интеграция, включая возможное введение «европейских оборонных облигаций» для долгосрочных инвестиций в инновационные разработки.
Для полноценной автономии Европе целесообразно интегрировать не только закупки, но и разведывательное сотрудничество, создав единую «Службу разведывательного сотрудничества ЕС» и Европейский совет безопасности с участием Великобритании. Важным практическим шагом может стать назначение европейского генерала на пост верховного главнокомандующего объединенными силами в Европе, что будет отражать возросшую роль европейских государств в обеспечении собственной безопасности.
Подобные меры находят поддержку общественности: согласно опросам, лишь 19% европейцев в полной мере доверяют своим национальным армиям, тогда как 60% положительно оценивают идею общеевропейских оборонных структур. Политическая воля к таким изменениям постепенно формируется: ведущие политики активно обсуждают возможность передачи части полномочий по координации закупок на наднациональный уровень.
Путь к стратегической автономии потребует от европейских лидеров баланса между национальными интересами и коллективными целями безопасности. Более самостоятельная Европа может стать более эффективным и предсказуемым партнером для США, способным самостоятельно решать задачи по стабилизации в соседних регионах, тем самым позволяя американским партнёрам концентрировать ресурсы на глобальных приоритетах. Развитие европейского военного потенциала рассматривается не как ослабление трансатлантического партнёрства, а как способ его укрепления через более сбалансированное распределение ответственности. На пути к этой цели существуют различия в подходах между странами, обусловленные историческими особенностями и различными стратегическими культурами, однако совместные проекты по разработке истребителя нового поколения и танковых платформ создают основу для новой модели сотрудничества.
Таким образом, более интегрированная и эффективная европейская система обороны позволит континенту играть более активную роль в определении контуров будущего мироустройства и укрепит трансатлантическое партнёрство на более равноправной основе. Стратегическая автономия рассматривается не как альтернатива существующим альянсам, а как важное условие обеспечения европейской безопасности в изменяющейся международной обстановке.
* Институт перспективных международных исследований (ИПМИ) не принимает институциональной позиции по каким-либо вопросам; представленные здесь мнения принадлежат автору, или авторам, и не обязательно отражают точку зрения ИПМИ.