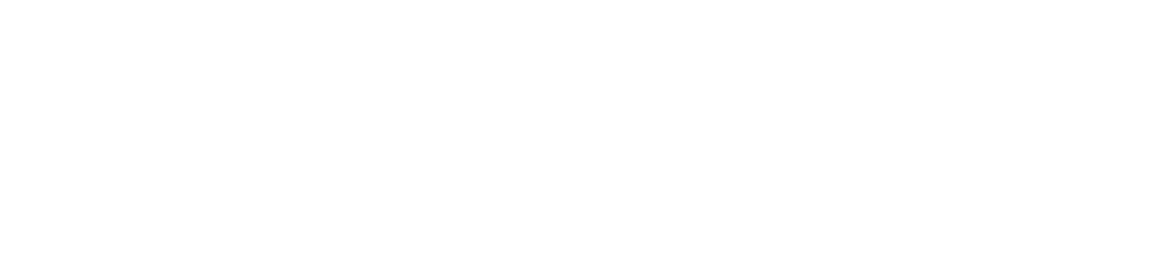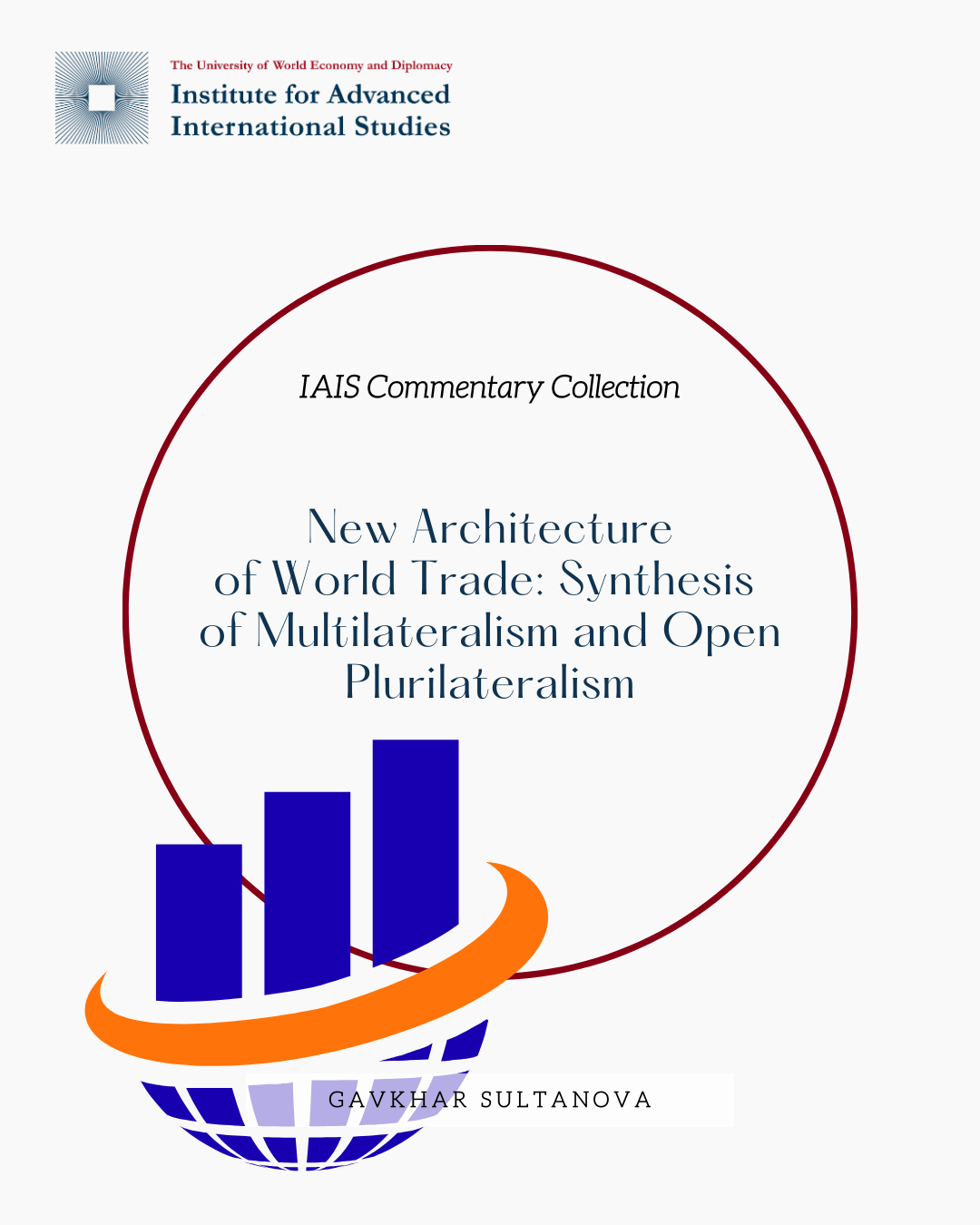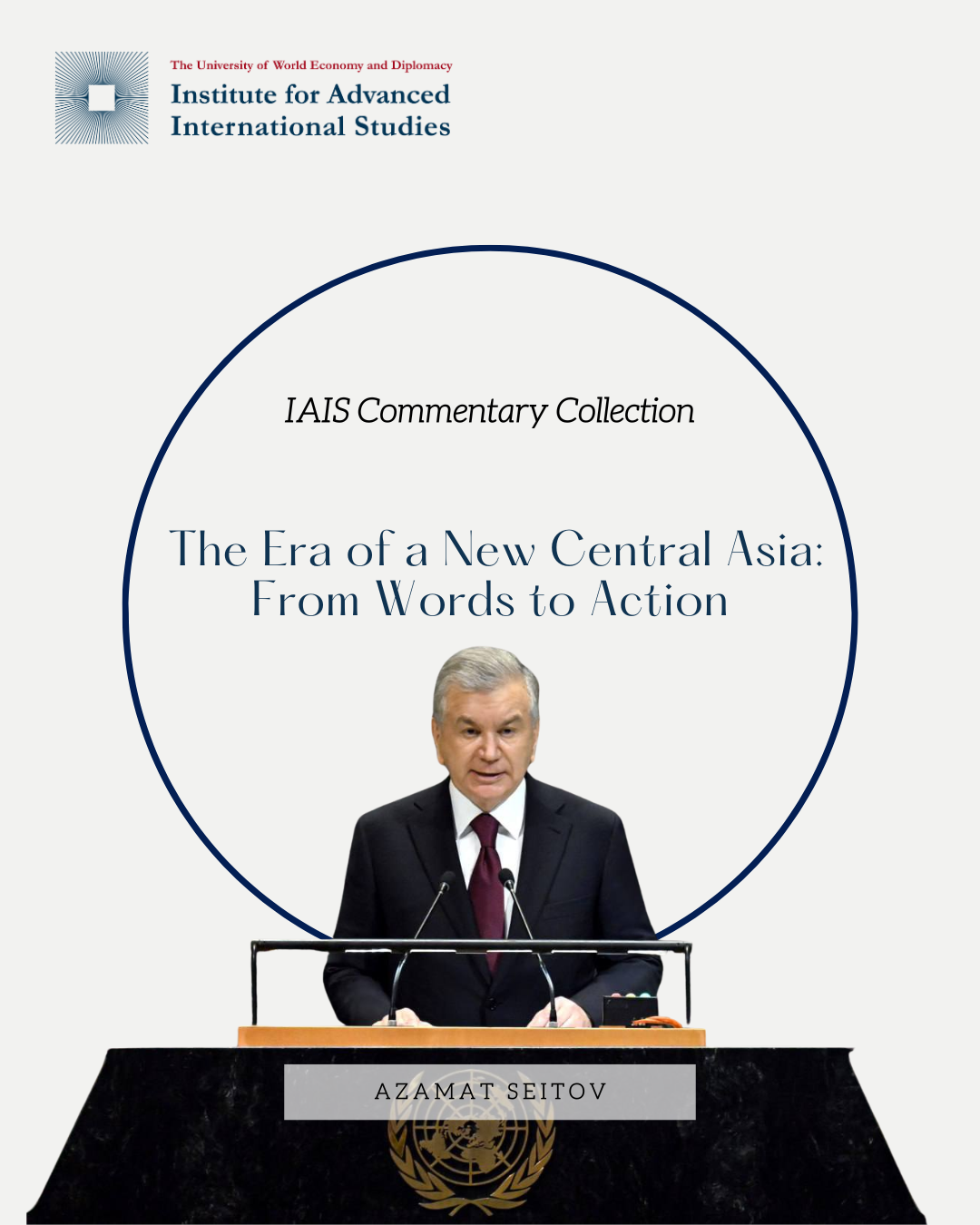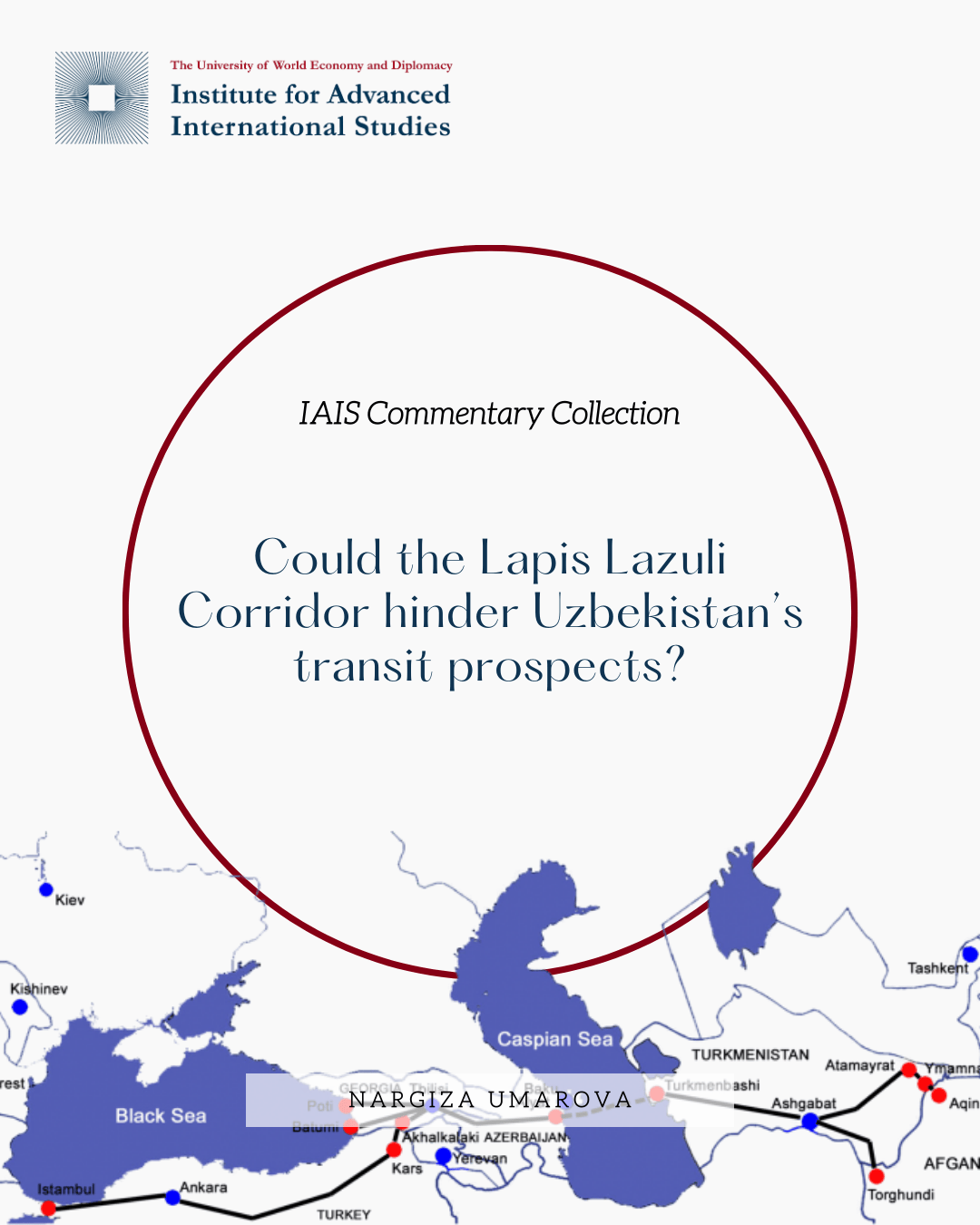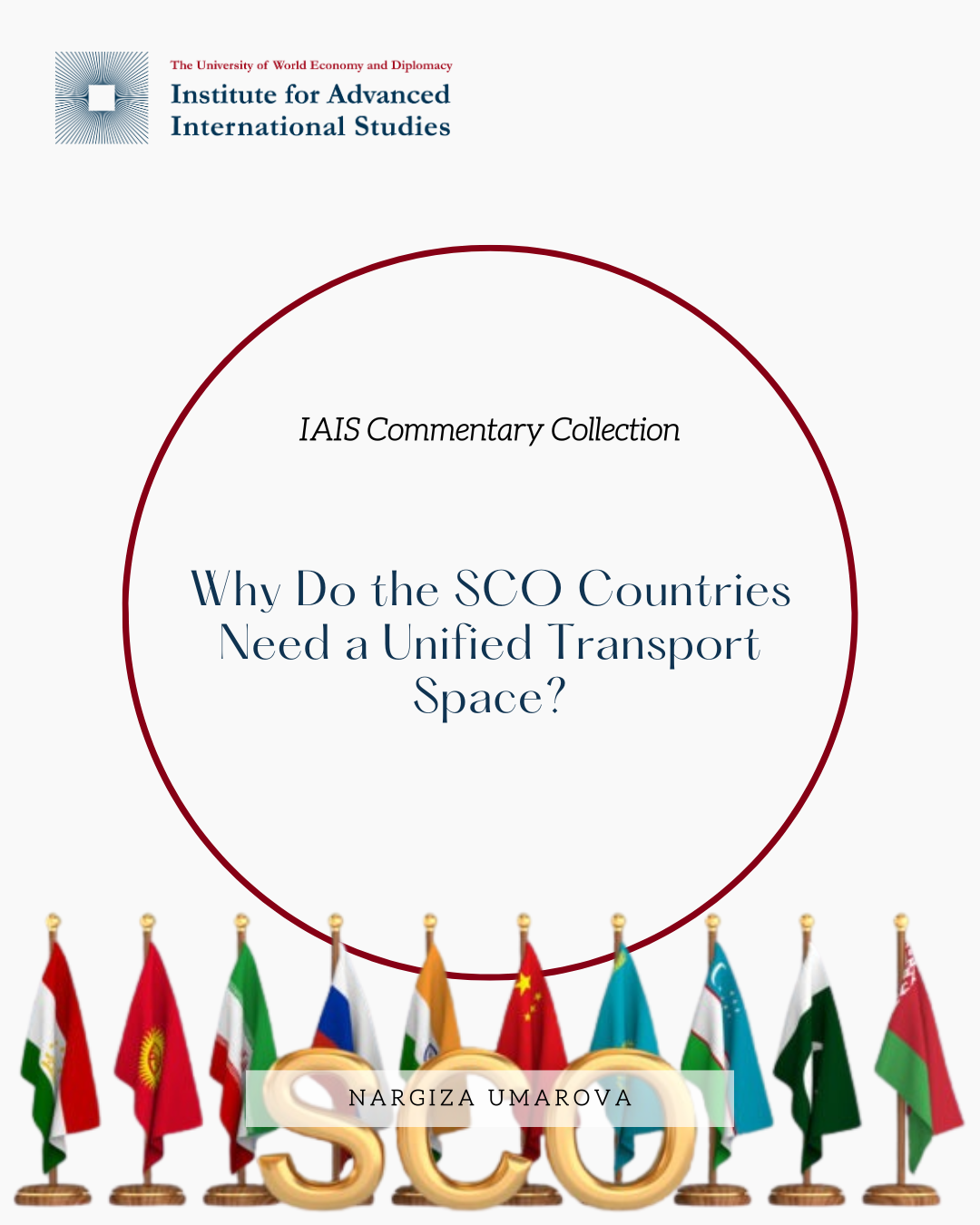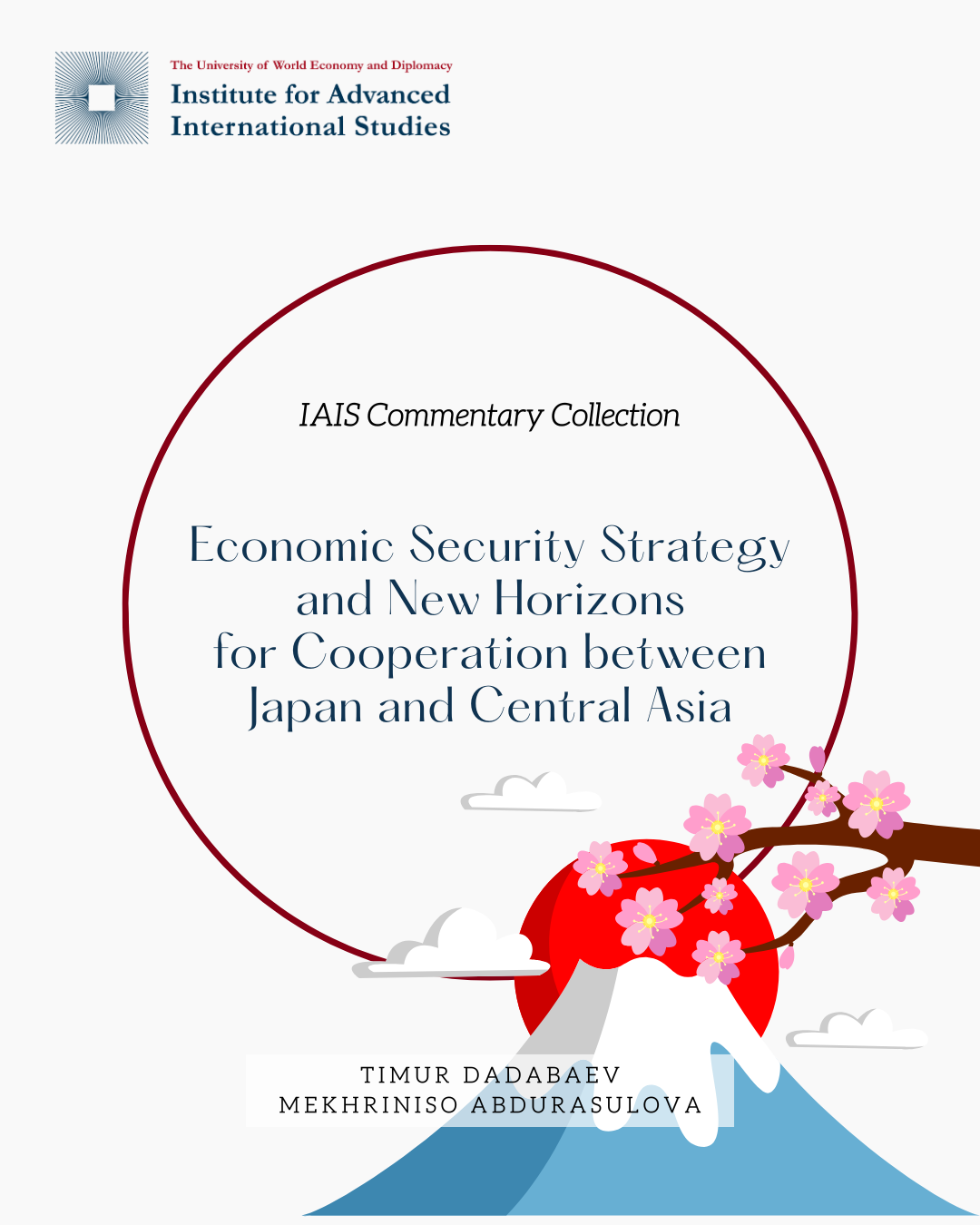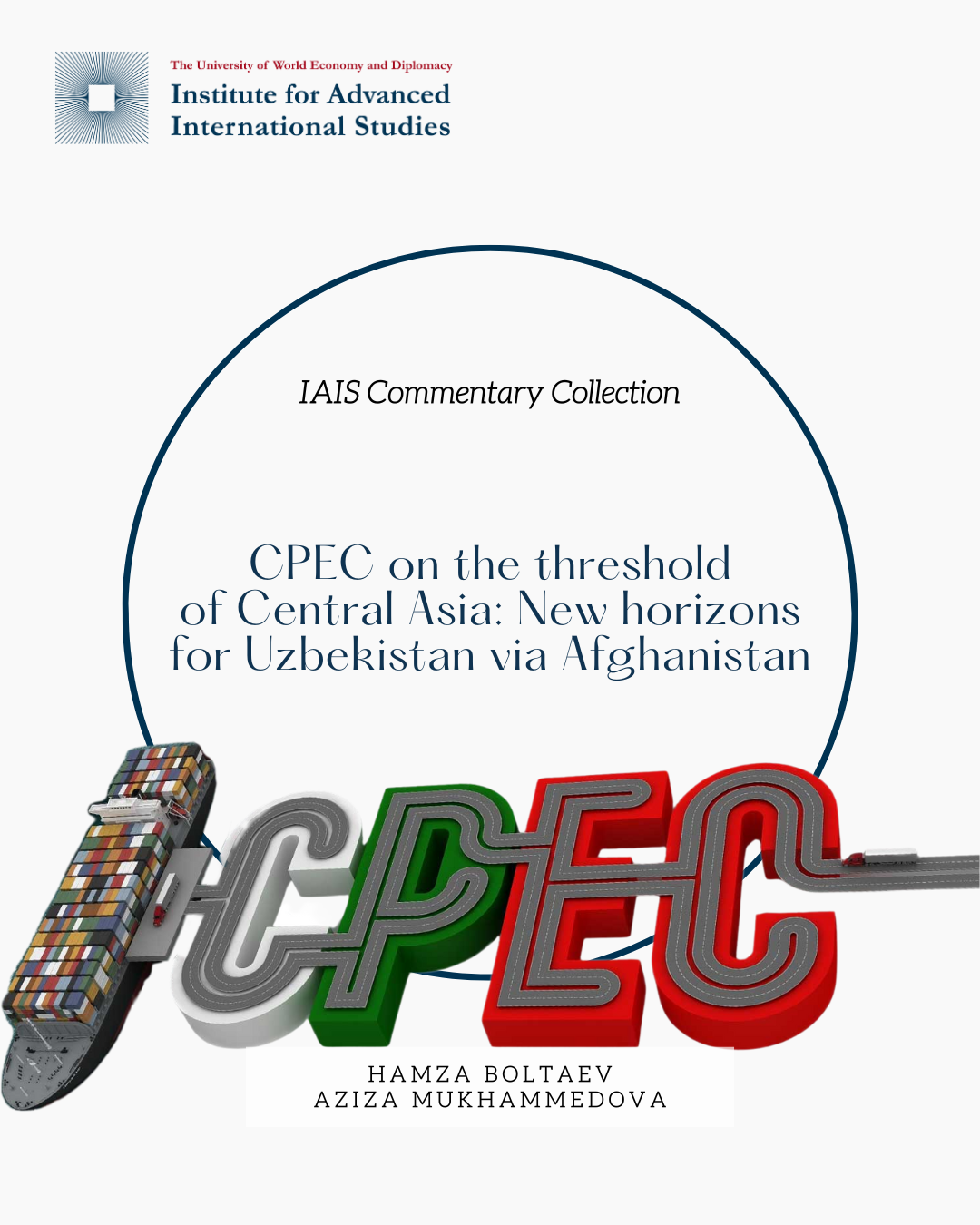Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 сентября в Нью-Йорке провёл встречу с генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалой, в рамках которой были обсуждены вопросы, связанные со вступлением Узбекистана в ВТО. Глава ВТО отметила значительный прогресс, достигнутый Узбекистаном, и выразила надежду на завершение всех процедур по присоединению к марту 2026 года.
Узбекистан подал заявку на вступление в ВТО в 1994 году. Однако в 2005 году процесс присоединения был приостановлен в связи с проводившейся в то время политикой импортозамещения. Возобновление процесса произошло в марте 2018 года после подачи официального заявления в секретариат ВТО. На сегодняшний день Узбекистан находится на продвинутой стадии процесса вступления в организацию. Страна планирует вступить в ВТО до начала 14-й Министерской конференции, которая пройдет в 2026 году в Камеруне. В настоящее время завершены двухсторонние переговоры и подписаны протоколы о доступе на рынок с 29 странами. По словам представителя президента по вопросам ВТО Азизбека Урунова, остается лишь три страны, чтобы полностью завершить двухсторонние переговоры. Узбекистан активно проводит реформы, направленные на приведение национального законодательства в соответствие с требованиями ВТО. Эти реформы касаются сфер торговли товарами, услугами, интеллектуальной собственности и сельского хозяйства.
Вступление Узбекистана в ВТО способствует ускорению рыночных реформ, повысит предсказуемость национальной экономической политики, создаст предпосылки для роста экспорта и инвестиций, повышения производительности экономики. Однако в свете усиления протекционизма со стороны ведущих экономик мира и развертывания торговых войн многие эксперты скептически относятся к будущему многостронней торговой системы. По мнению президента Совета по международным отношениям США Майкла Фромана, «Глобальная торговая система, какой мы её знали, мертва. ВТО фактически перестала функционировать, поскольку она не способна вести переговоры, осуществлять мониторинг или обеспечивать выполнение обязательств стран-участниц».
В качестве альтернативы современной многосторонней системе регулирования торговли он предлагает «построить новую систему вокруг открытого плюрилатерализма: коалиций стран, которые имеют общие интересы в определенных областях и объединяются для принятия высоких стандартов по конкретным вопросам, оставаясь при этом открытыми для других стран, разделяющих эти интересы и готовых внедрить такие стандарты». В качестве преимущества новой системы Фроман отмечает ее гибкость и адаптивность. В тоже время предлагаемая система уступает действующей в экономической эффективности, поскольку ее выгоды будут распределяться только среди стран-участников. Также существует риск возникновения «эффекта спагетти» в связи с тем, что одни и те же страны могут быть участниками различных плюрилатеральных соглашений и иметь противоречащие друг другу обязательства. Несмотря на эти недостатки, по мнению Фромана, такая сеть может оказаться более политически устойчивой, чем многосторонняя торговая система.
В своем выступлении на встрече, организованной Институтом международной экономики Петерсона (США), генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала подчеркнула, что, хотя многие уже объявили «смерть ВТО», другие видят в этом возможность построить более сильную и устойчивую торговую систему. Несмотря на подрыв глобальной торговли вследствие односторонних мер, ВТО «остается живой». До усиления протекционизма со стороны США и введения ответных мер другими странами, 80% мировой торговли осуществлялось на основе режима наибольшего благоприятствования (РНБ). В настоящее время данный показатель упал до 72%. Вместе с тем, 75% мировой торговли товарами все еще осуществляется на условиях ВТО, что свидетельствует об устойчивости многосторонней системы в условиях глобальной неопределенности.
Генеральный директор ВТО отметила необходимость реформирования системы ВТО для того, чтобы сделать ее более гибкой. «Моя программа на следующий срок – сохранить то, что работает, реформировать то, что не работает, и смотреть в будущее, создавая новые правила и соглашения для увеличения выгод от международной торговли», подчеркнула она.
Несмотря на существующую напряженность в мировой торговле, впервые за 8 лет вступило в силу многостороннее соглашение о рыболовстве, ратифицированное 114 странами-членами ВТО, что свидетельствует об их стремлении к достижению устойчивого развития через установление новых правил торговли. Наряду с этим, на платформе ВТО ведется активная работа по заключению ряда плюрилатеральных соглашений, например, в области электронной коммерции. Другими словами, в рамках деятельности ВТО создаются коалиции стран-участниц для заключения новых соглашений, направленных на решение конкретных проблем. По словам Нгози Оконджо-Ивеала, некоторые члены ВТО обеспокоены фокусом на заключение плюрилатеральных соглашений, в связи с тем, что они могут ослабить значимость многосторонних договоренностей. Она подчеркнула, что не стоит этого бояться, т.к. существует необходимость в «корзине различных инструментов» для повышения степени гибкости и устойчивости ВТО. Поэтому коалиции различных стран приветствуются в ВТО, они не создают параллельную систему, а дополняют действующий механизм.
Генеральных секретарь ВТО отметила, что глобальная торговая система была создана для обеспечения взаимозависимости стран и показала свою эффективность в течение 80 лет. В частности, в результате развития глобальной торговли на основе прозрачных правил регулирования, более 1,5 млрд человек вышли из абсолютной бедности. В настоящее время важно обеспечить устойчивое развитие мировой экономики с акцентом на снижение «сверхзависимости» от отдельных поставщиков и рынков. Поэтому ВТО поддерживает создание коалиций членов, направленных на сокращение «сверхзависимости» и децентрализацию цепочек поставок с широким вовлечением стран с относительно низкими доходами.
Нгози Оконджо-Ивеала выразила надежду, что на Четырнадцатой Министерской конференции в Камеруне страны-члены ВТО достигнут консенсуса и примут пакет ключевых реформ, который укрепит эффективность многосторонней торговой системы. Став полноценным членом ВТО, Узбекистан сможет вносить свою лепту в совершенствование международных правил торговли с учетом национальных интересов во благо процветания народа. Стратегическая задача Узбекистана – не просто присоединиться к ВТО в качестве нового участника, но и стать инициатором обновления ее правил. ВТО по-прежнему остается самой эффективной площадкой для установления «правил игры», а плюрилатерализм – ключевым инструментом для их оперативного совершенствования. Задача страны – умело использовать эти ресурсы для достижения устойчивого развития и защиты своих национальных интересов.
* Институт перспективных международных исследований (ИПМИ) не принимает институциональной позиции по каким-либо вопросам; представленные здесь мнения принадлежат автору, или авторам, и не обязательно отражают точку зрения ИПМИ.