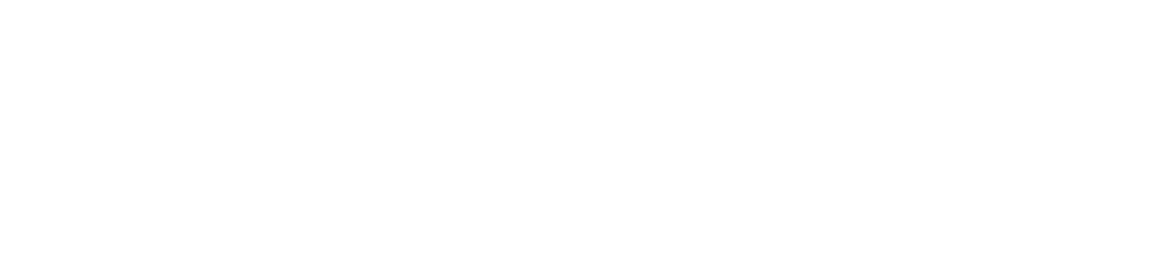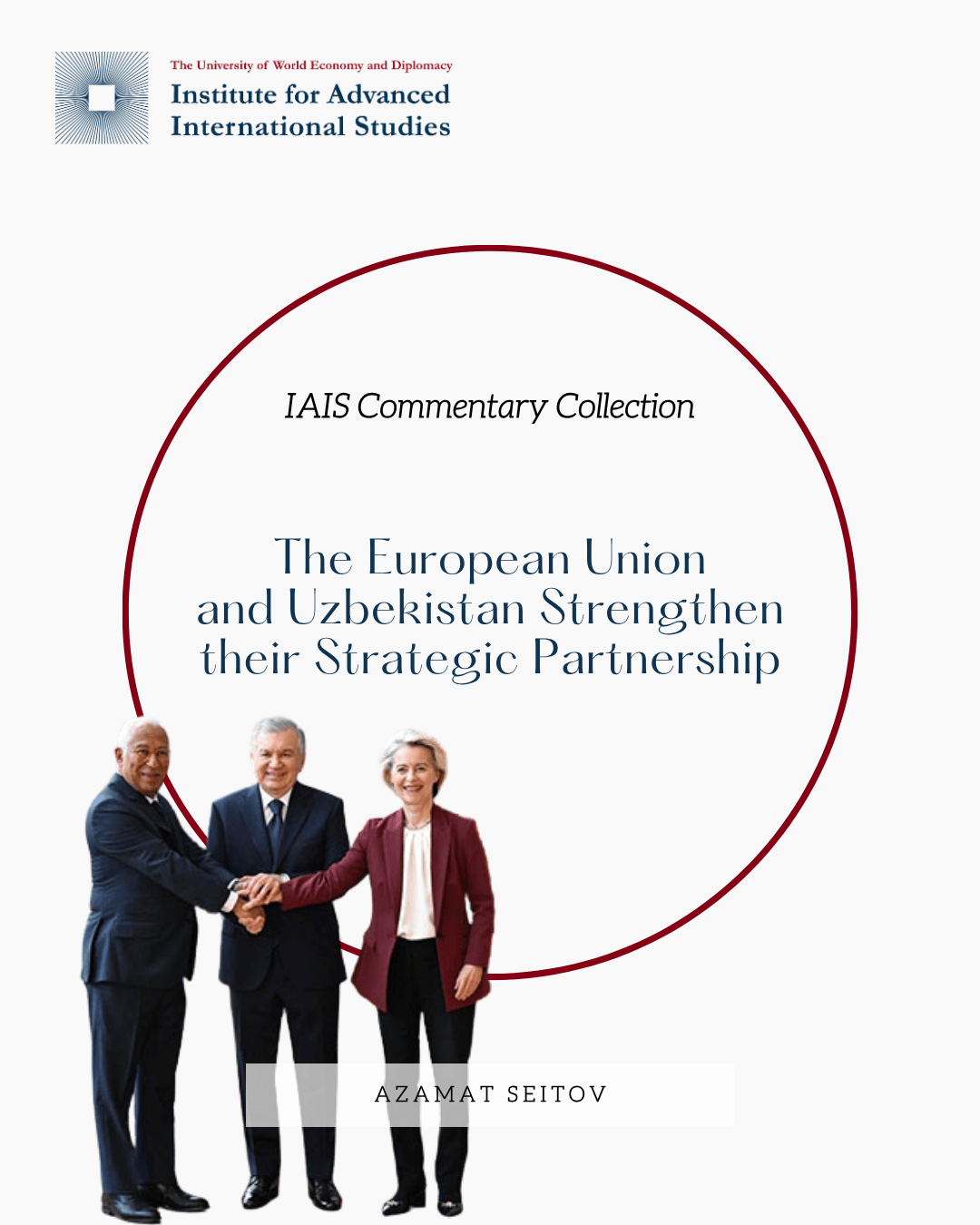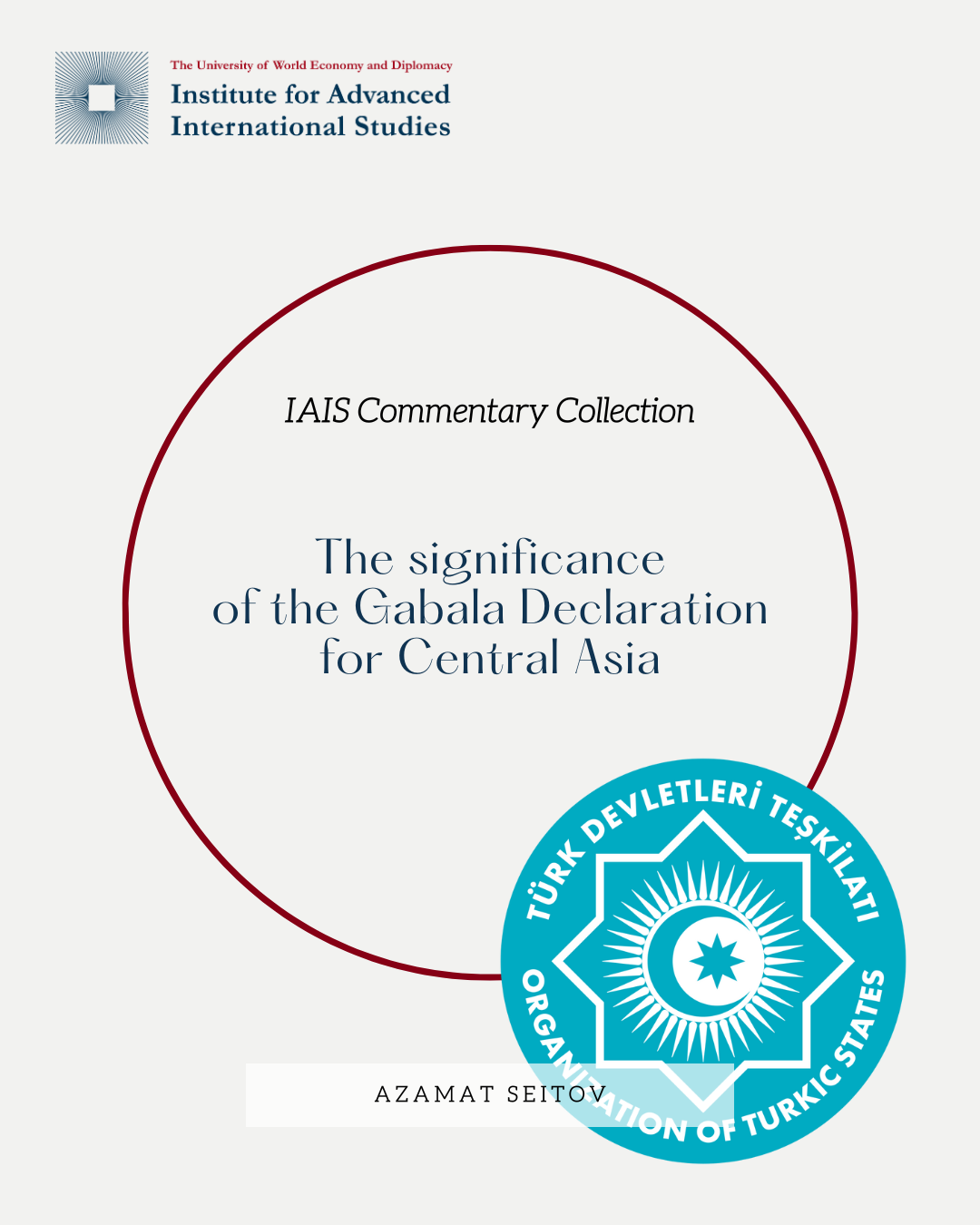Историческая победа для Японии
4 октября 2025 года Санаэ Такаити одержала победу на выборах президента Либерально-демократической партии (ЛДП), опередив Синдзиро Коидзуми со счетом 185 голосов против 156 во втором туре. Благодаря этой победе она стала первой женщиной-премьер-министром Японии, что стало переломным моментом в политической истории страны. Выборы лидера партии последовали за отставкой Сигэру Исибы и проходили на фоне снижения доверия общественности к ЛДП, которая сталкивалась с растущим давлением с целью восстановления экономической стабильности и укрепления позиций Японии на мировой арене.
«Я вошла в историю ЛДП», — сказала Такаити после объявления результатов. «Вместо того, чтобы праздновать, я чувствую тяжесть многих предстоящих вызовов, с которыми я должна справиться вместе с вами».
Выборы и кандидаты
Выборы лидера ЛДП проходят по двухтуровой системе, сочетающей голоса членов парламента и рядовых членов партии: 590 голосов в первом туре и 342 — во втором. Кандидаты должны быть действующими депутатами ЛДП с не менее чем 20 парламентскими номинациями. В выборах 2025 года участвовали Санаэ Такаити, Синдзиро Коидзуми, Йосимаса Хаяси, Такаюки Кобаяси и Тосимицу Мотеги. Победа Такаити стала результатом консолидации консервативных фракций, ее четкой позиции по вопросам национальной безопасности и широкой поддержки со стороны региональных партийных организаций, что отражает сдвиг внутри ЛДП в сторону идеологической преемственности наследия Синдзо Абэ в сочетании с акцентом, который Такаити делает на экономической устойчивости и технологическом суверенитете.
После объявления результатов Такаити заявила, что испытывает не радость, а тяжесть предстоящей ответственности, подчеркнув необходимость оздоровления партии и преобразования общественной тревоги в надежду посредством реформ. В 64 года она добилась успеха с третьей попытки, представляя наиболее консервативное крыло партии. Ее политическая карьера началась в 2006 году при премьер-министре Синдзо Абэ в качестве министра по делам Окинавы и северных территорий, позже она занимала должности министра по вопросам гендерного равенства и министра внутренних дел и коммуникаций.
Такаити, которую часто называют «железной леди» Японии, восхищается стилем руководства Маргарет Тэтчер и выступает за пересмотр конституции с целью явного признания Сил самообороны Японии «вооруженными силами». В экономической сфере она продвигает быстрые меры по борьбе с инфляцией, отдавая предпочтение гибкой налоговой политике, сочетающей снижение подоходного налога и компенсации, а не немедленное снижение налога на потребление.
Приоритеты внешней политики: безопасность и суверенитет
Оборона и конституционная реформа
Правительство Такаити планирует продолжить увеличение расходов на оборону до более 2% ВВП, с основными инвестициями в противоракетную оборону, кибербезопасность и космические возможности. Она также выступает за пересмотр статьи 9 Конституции Японии, чтобы официально признать право страны на самооборону — смелый шаг, отражающий ее приверженность «миру через силу».
Китай и Тайвань
Такаити обещает занять твердую сдерживающую позицию по отношению к Китаю, усиливая при этом сотрудничество с США и союзными странами. Ее открытое взаимодействие с Тайванем, представленное как поддержка демократии и стабильности, уже вызвало осторожную реакцию Пекина, призывающего Токио «действовать осмотрительно».
Укрепление союза между США и Японией
Альянс между США и Японией остается центральным элементом ее стратегии. Она планирует расширить сотрудничество в области оборонных технологий, развития талантов и безопасности цепочек поставок, а также углубить трехстороннее сотрудничество с Южной Кореей и Австралией, несмотря на сохраняющиеся исторические противоречия.
Расширение региональной дипломатии
Такаити стремится усилить лидерскую роль Японии в Индо-Тихоокеанском регионе, участвуя в деятельности АСЕАН, QUAD и G7. Ее администрация продолжит гуманитарное и инфраструктурное сотрудничество в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, а также возобновит диалог с Ближним Востоком по вопросам энергетической безопасности и свободы судоходства. Кроме того, она стремится к укреплению партнерских отношений со странами Центральной Азии, особенно в области развития энергетики, цифровой инфраструктуры и обмена человеческим капиталом в рамках концепции «Свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион», направленной на поддержку региональной стабильности и уравновешивание внешнего влияния в Евразии.
Новая эра лидерства
Избрание Такаити символизирует как преемственность, так и преобразования: преемственность в стратегическом курсе Японии, установленном при Синдзо Абэ, и преобразования благодаря ее исторической роли в качестве первой женщины-лидера Японии. Ее акцент на обороне, технологиях и устойчивости подчеркивает решимость позиционировать Японию как проактивную, безопасную и основанную на ценностях демократию в условиях растущей напряженности в мире.
Примечательно, что 4 октября бывший премьер-министр и влиятельный деятель Либерально-демократической партии (ЛДП) Таро Асо сделал важный политический шаг, призвав около 43 членов своей фракции «Сикокай» поддержать Санаэ Такаити во втором туре выборов лидера партии, что значительно укрепило ее позиции в ЛДП.
В то же время Асо традиционно рассматривает Центральную Азию как ключевой вектор внешней политики Японии в рамках своей концепции «дипломатии Шелкового пути». Он последовательно продвигает диалог «Центральная Азия + Япония», направленный на укрепление двустороннего и многостороннего взаимодействия, обеспечение региональной стабильности, развитие транспортных и логистических коридоров (включая южный маршрут через Афганистан) и расширение сотрудничества в области энергетики, инфраструктуры и безопасности.
В ближайшие месяцы Такаити предстоит проверить свою способность балансировать между активной дипломатией и экономической стабильностью. Ее руководство, вероятно, переопределит позицию Японии в регионе — укрепит союзы, будет продвигать инновации и защищать демократические ценности — при этом выстраивая сложные отношения с Китаем и соседними державами. Мир наблюдает за тем, как первая женщина-премьер-министр Японии выходит на мировую арену, а ее администрация обещает новую эру решимости, ответственности и возрождения.
Иммиграционная политика Японии и политическая динамика при Санаэ Такаити
Регулирование статуса иностранных резидентов, которое стало центральным вопросом во время июльских выборов в Палату советников, остается одной из наиболее актуальных тем в современной японской политике. Санаэ Такаити, недавно избранная президентом Либерально-демократической партии (ЛДП), уделяет приоритетное внимание ужесточению иммиграционной политики, подчеркивая меры по борьбе с нелегальным проживанием и регулированию приобретения земли иностранными гражданами. Ее позиция близко совпадает с позицией Партии инноваций Японии (Ишин) и Демократической партии для народа (ДПН), что создает потенциальные возможности для межпартийного сотрудничества в продвижении этих инициатив.
В то же время позиция партии Комейто, коалиционного партнера ЛДП, которая уделяет больше внимания сосуществованию с иностранными резидентами, чем ужесточению ограничений, может стать источником напряженности внутри правящего альянса. Лидер Комейто Тэцуо Сайто уже выразил обеспокоенность, подчеркнув необходимость достижения консенсуса по ключевым принципам политики в отношении иностранных резидентов для поддержания стабильности коалиции.
Такаити объявила о своем намерении укрепить Управление по содействию сосуществованию с иностранными гражданами и увеличить штат Агентства иммиграционных служб для усиления возможностей по обеспечению соблюдения законов. В своей речи, произнесенной в день объявления о президентских выборах, Санаэ Такаити начала с упоминания инцидента, в котором иностранный гражданин якобы пнул оленя в парке Нара в ее родном городе, тем самым символически продемонстрировав свою твердую решимость ужесточить иммиграционную политику Японии.
Оппозиционные партии также высказались в поддержку более строгих мер контроля и введения закона о борьбе со шпионажем, в результате чего вопросы миграции и национальной безопасности, вероятно, станут центральными темами будущих политических дебатов в Японии.
* Институт перспективных международных исследований (ИПМИ) не принимает институциональной позиции по каким-либо вопросам; представленные здесь мнения принадлежат автору, или авторам, и не обязательно отражают точку зрения ИПМИ.