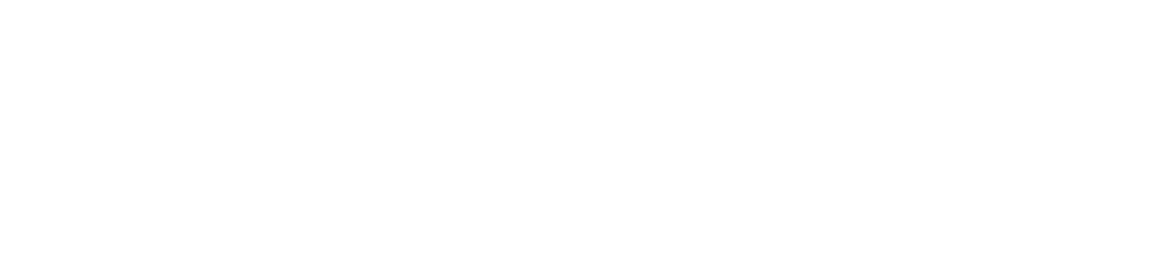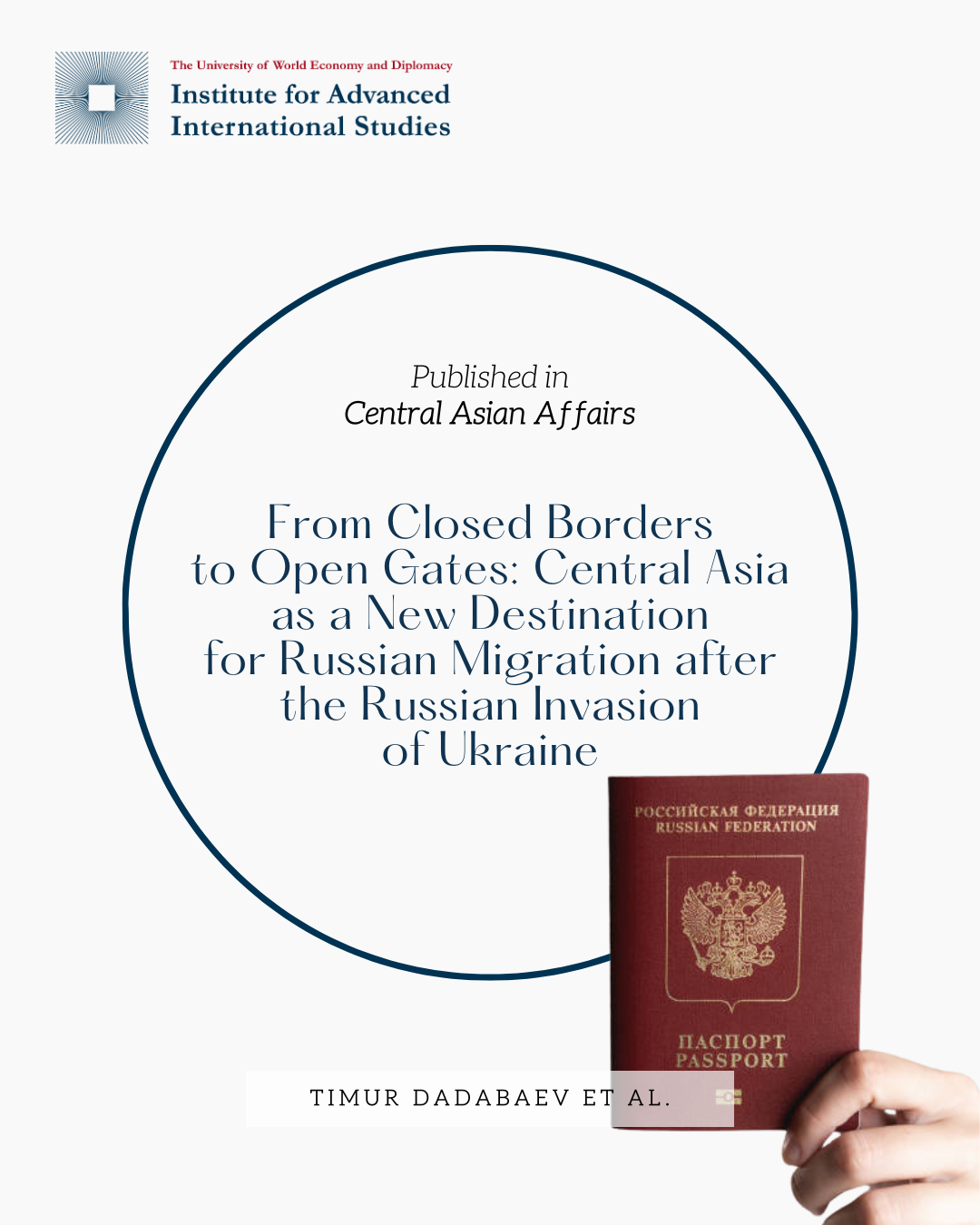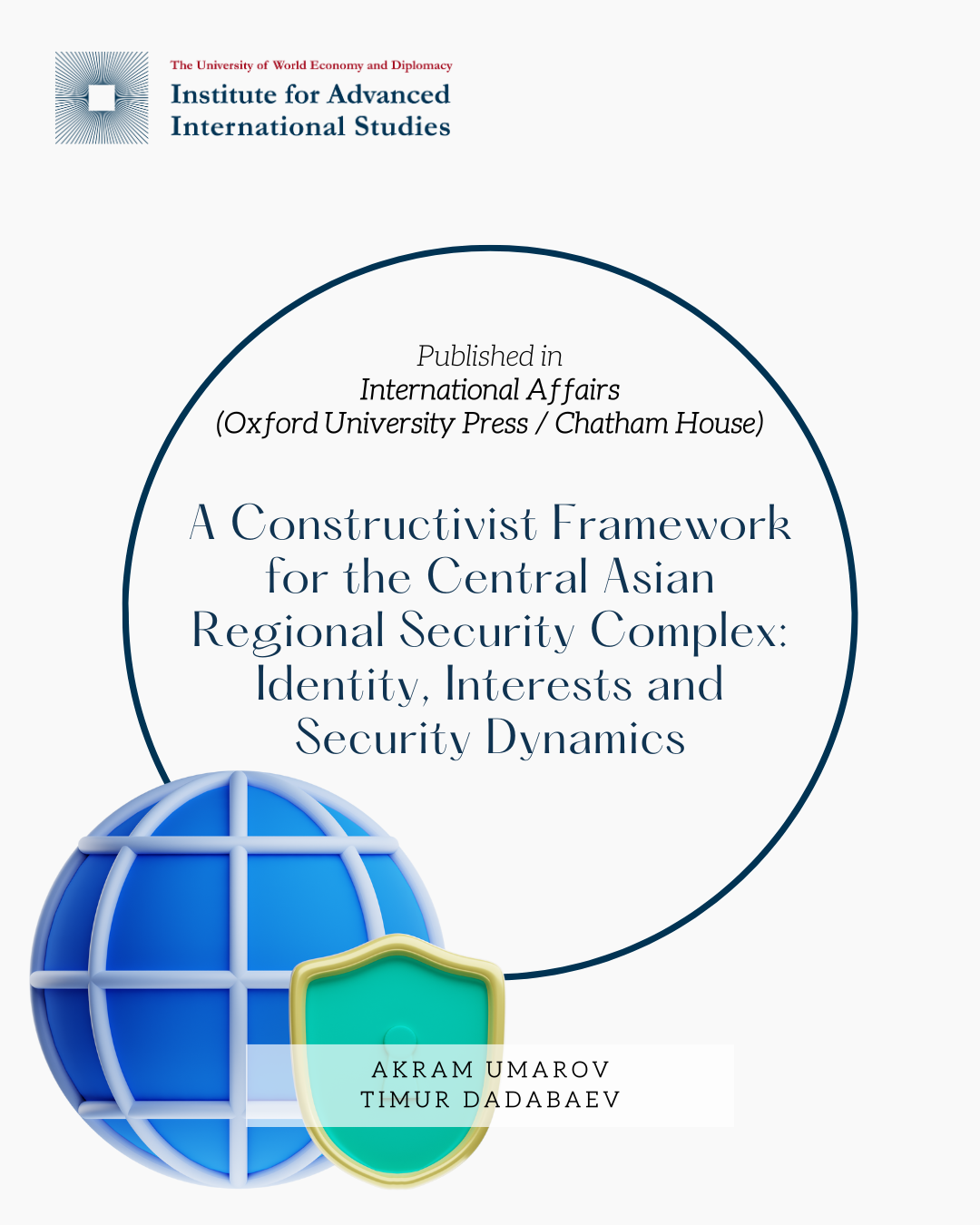В своем всестороннем исследовании Ида Цзяо анализирует эволюцию модели китайских центров демонстрации сельскохозяйственных технологий (ЦДСТ) в Африке, созданных для содействия передаче китайского сельскохозяйственного ноу-хау развивающимся странам. С момента своего создания в 2006 году в рамках Форума китайско-африканского сотрудничества (FOCAC) ЦДСТ продвигались как средство, сочетающее технологическую помощь с коммерческой жизнеспособностью. Цзяо критически анализирует эту структуру с двойной целью, утверждая, что, хотя ЦДСТ являются улучшением по сравнению с прошлыми усилиями по оказанию помощи, отходя от моделей, основанных исключительно на грантах, они по-прежнему воплощают в себе внутреннее противоречие между целями развития и стремлением к прибыли. Он подчеркивает, что, хотя центры представлены как инструменты для повышения продовольственной безопасности и производительности сельского хозяйства, их деятельность часто определяется коммерческими интересами китайских компаний.
Цзяо дает подробный разбор трехэтапной операционной модели ЦДСТ: развитие инфраструктуры, техническое сотрудничество и бизнес-трансформация. Он объясняет, что, хотя китайское государство финансирует начальные этапы, конечной целью является коммерческая интеграция китайских предприятий в местные сельскохозяйственные рынки. Однако Цзяо отмечает, что эти центры часто сталкиваются с трудностями при попытках эффективно адаптировать китайские сельскохозяйственные технологии к местным условиям. Часто наблюдается несоответствие между китайским опытом и местными потребностями, например, стремление внедрить высокоурожайные китайские сорта семян вместо предпочитаемых местными жителями культур, а отсутствие надлежащей инфраструктуры (такой как ирригация и электричество) еще больше затрудняет успешную передачу технологий.
Важно отметить, что Цзяо рассматривает ЦДСТ в более широком идеологическом контексте собственного пути развития Китая. Он объясняет, как китайская философия развития, характеризующаяся экспериментаторством и технократическим прагматизмом, определяет как концепцию, так и работу этих центров. Опираясь на отечественные модели распространения сельскохозяйственных знаний, ЦДСТ отражают китайские практики управления, в том числе объединение государственных и частных функций под одной институциональной крышей. Это слияние, хотя и потенциально эффективное, также вызывает путаницу на местах, особенно среди африканских партнеров, которым может быть сложно отличить деятельность по оказанию помощи от коммерческих предприятий. Цзяо отмечает, что эти размытые роли могут привести к недоверию и расхождению ожиданий между заинтересованными сторонами.
Как отмечает Цзяо, ЦДСТ также являются площадками для геополитических сигналов. Хотя они служат для продвижения китайской мягкой силы, демонстрируя модернизацию сельского хозяйства и наращивание потенциала, их практическое влияние на африканские системы ведения сельского хозяйства остается спорным. Некоторые оценки подчеркивают ощутимые выгоды в виде повышения урожайности и развития навыков, в то время как другие ставят под сомнение устойчивость этих результатов после ухода китайских команд. Кроме того, Цзяо подчеркивает внутренние противоречия в самих китайских командах, где молодые специалисты, стремящиеся внести свой вклад в развитие, сталкиваются с тем, что их усилия отходят на второй план из-за коммерческих императивов.
В итоге, анализ Цзяо представляет модель ЦДСТ как амбициозный, но противоречивый эксперимент в области сотрудничества Юг-Юг. Он признает ее потенциал в поддержке преобразования сельского хозяйства в Африке, в частности, путем согласования с местными потребностями в области развития и использования китайского опыта. Однако он также предупреждает, что без большей чувствительности к местным условиям, более четких границ между помощью и коммерцией и устойчивого обязательства, выходящего за рамки краткосрочного обучения, ЦДСТ рискуют стать скорее символическими, чем преобразующими. Его исследование вносит своевременный и важный вклад в понимание роли Китая как растущего игрока в глобальном развитии сельского хозяйства.
* Институт перспективных международных исследований (ИПМИ) не принимает институциональной позиции по каким-либо вопросам; представленные здесь мнения принадлежат автору, или авторам, и не обязательно отражают точку зрения ИПМИ.